Виктор Сокирко
ПАМЯТЬ О МАМЕ
О Татьяне Дмитриевне Глобенко –
ее дорогим внукам и моим детям
Артему, Гале, Алеше и Ане Сокирко.
1975 г.
Эту памятную запись я делаю для своих детей, для их будущего. Для вас: Тема, Галя, Аня и Алеша, когда станете взрослыми и почуете жажду разбираться в себе и в своих истоках.
Я печатаю эту память в 5-ти экземплярах, чтобы каждый из вас, уходя из дома, имел свое наследство памяти.
Только одному Артему досталась радость близкого общения с бабушкой Таней и счастье помнить ее живой всю жизнь. Не мудрено – ведь был он ее первым внуком.
Я помню один случай еще до Темки, когда ваша мама (тогда просто Лиля) готовилась к его рождению и принесла из магазина первые детские вещички. Увидев в ее руках одеяльце, бабушка Таня (тогда просто моя мама) радостно схватила его и прижала комком к груди, порывисто как ребенка.
А потом, почти 12 лет, Артемка был для нее вторым сыном. Жили долго в одной комнате, в одном доме, вместе жили на даче. Ко дню смерти бабушки Тани Артем стал достаточно взрослым, чтобы разбираться немного в своих близких, их хороших и слабых сторонах, в их большой любви, и в малых недостатках. Его личная память о бабушке Тане – ничем не заменимое богатство.
Гале повезло меньше. За месяц до ее рождения нам дали отдельную комнату, и контакты резко сократились. Последние годы бабушка Таня все больше болела, сил оставалось все меньше. Ухаживать за Галей, как за Темой, она не могла и делила заботы с прабабушкой Полей. Летом же Галя жила всегда в Волгограде с бабушкой Фаиной.
Галя еще не пошла в школу, когда умерла бабушка Таня, и возможно, эта смерть не стала большим событием в ее жизни и памяти - связей было меньше. И все же обрывки детских личных воспоминаний о бабушке Тане у Гали останутся, останутся ее посещения и угощения, останутся куклы – Ваня большой и двойняшки маленькие, останутся подарки и ласка. И в будущем, когда взрослая Галя заинтересуется своим происхождением, ей будет легче собственным воображением восстановить в душе образ мамы своего отца.
Хуже всего нашим двойняшкам – Алеше и Ане. Им не было и месяца, когда бабушка Таня занемогла в последний раз и, проболев всю зиму и весну, не встала. Можно по пальцам перечислить все встречи бабушки Тани с младшими внуками. При выходе мамы Лили из роддома, потом, когда бабушка лечила ее от мастита – поздней осенью 1974 г., уже больной и очень слабой бабушка Таня пожила несколько дней у нас в новой квартире, лишь в малой степени осуществив свою последнюю мечту «понянчить внуков», младшеньких.
Сейчас я понимаю, что это были ее последние дни, когда усилием воли она заставила себя быть на ногах, казаться здоровой, радоваться внукам и быть всем нам полезной. Больше ей ничего не удалось самой сделать. Сколько раз она за эту зиму принималась вязать шапку и шарфик для невестки (вашей мамы), но бессильно и неудовлетворенно откладывала начатое. Уже после больницы, когда начала пухнуть смертельной водянкой, когда ей самой близость смерти стала ясной, она просила родственницу довязать начатое. Подарок она сделала Вашей маме за месяц до дня рождения – уже не надеялась сама увидеть этот день.
Всю зиму, в дни моих посещений она говорила, как ей хочется погладить и послушать Аню и Алешу, но увидеть их ей пришлось лишь три раза на несколько часов. В январе, в день 60-летия, мы все еще искренне считали, что жить ей долго-долго – и не только с Алешей и Аней, но и с правнуками. В апреле, когда я уже почти все понял, даже напрасность надежд и свое бессилье, выполнение каждого ее желания стало святым делом. И, наконец, на Пасху – в последний праздник бабушки Тани. Она уже почти не могла ходить, до пояса опухла. Огромными дозами сильнодействующих лекарств и жестким ограничением воды и пищи мы пытались остановить и повернуть вспять этот страшный процесс. И иногда бывала видимость успеха, когда опухлость вроде отступала. Так нам тогда хотелось верить в ее выздоровление, так страшна была мысль о смерти, что любая видимость казалась твердым основанием для уверенности и спокойствия. Жажда веры в спасение была непреодолимой. Так было и 4 мая, за 24 дня до смерти бабушки Тани.
Все мои майские посещения ее (в квартире на Багратионовской и на даче в Усадково), она много раз вспоминала Аню и Алешу. «Так и стоит у меня перед глазами Алеша, когда он стоял у колен, смеялся и дергал за руки» - говорила она, улыбаясь и светясь из последних сил.
И горько мне было ее слушать.
И горько было в день похорон смотреть на Алешу и Аню у родственников на руках и сознавать, что так и не удалось моей маме стать живой бабушкой для своих любимых последних внуков. В тот солнечный майский день они были спокойны и радостны, не понимали своей обездоленности.
Тем больше нужда в этих записках для них – когда повзрослеют. Только из рассказов знавших бабушку Таню Алеша и Аня смогут узнать, создать в своей душе ее образ. Образ человека, воспитавшего их отца и старшего брата, влиявшего на их деда, маму и старшую сестру – и через них, пусть косвенно, определившего воспитание и судьбу младших.
Алеше и Ане будет труднее всего, к ним я обращаюсь прежде всего. Пусть мои дети вспоминают бабушку Таню, пусть обогащают свою душу этой памятью, как и памятью обо всех своих родственниках, друзьях и учителях. Такая работа поможет Вам стать добрыми и мудрыми людьми.
В разном возрасте к людям приходит понимание необходимости осознания связи с предками. Ко мне оно пришло только сейчас – перед сорокалетием. Надеюсь, что к Вам оно придет раньше.
Но когда придет эта пора задуматься о будущем своих детей, и рассказывать им о мире, я надеюсь, Вы не забудете помянуть и обо мне, будущем деде. Не перервете связи поколений.
Давняя мудрость говорит, что о покойниках следует говорить только хорошее. Но она совсем не противоречит тому, что об умерших можно говорить всю правду. Надо говорить всю и полную правду! Умерший не связан с живыми противоположными интересами и пристрастиями. К нему можно и нужно относиться только объективно, вспоминать все стороны: и безусловно хорошие, и те, которые раньше казались плохими, но если разобраться, то оказываются либо продолжением достоинств, либо следствием внешних сил или слабой внутренней природы. Мы должны понять недостатки умерших и этим самым – оправдать их. Только так, только пониманием, как можно их избежать. Мы не имеем право бранить мертвых. Надо понимать и учиться на их жизни.
Так и с памятью о бабушке Тане.
Мне нет надобности скрывать сложности ее общения с другими людьми, в том числе и с самыми близкими. Я только не могу позволить себе быть поверхностным, не докапываться до всех добрых ее истоков. И не могу позволить себе часто отвлекаться на детали, иначе не смогу толком рассказать о главном.
Отец и мать: 1915 – 1932 годы.
Таня родилась 17 января 1915 года в селе Гвинтовое Сумской области северо-восточной Украины, в крестьянской семье. По срокам видно, что зачата она была в последние мирные месяцы 14-го года, но родилась – уже в новую эпоху «мировых войн и революций», безжалостное время, не зная которого вам, мои дети, не понять характера и душевного облика бабушки Тани.
 Ее отец, а ваш прадед – Митрофан Степанович Глобенко. Когда Таня в годы «великого перелома» (коллективизации) полуграмотной девчонкой искала в городе себе документов и жизни, то в ответ на вопрос паспортистки: «Как звали Вашего отца?» ответила: «Митей» и на всю жизнь ее сделали «Дмитриевной».
Ее отец, а ваш прадед – Митрофан Степанович Глобенко. Когда Таня в годы «великого перелома» (коллективизации) полуграмотной девчонкой искала в городе себе документов и жизни, то в ответ на вопрос паспортистки: «Как звали Вашего отца?» ответила: «Митей» и на всю жизнь ее сделали «Дмитриевной».
Ваш прадед был крестьянином. Его родители, а ваши прапращуры – Степан Афанасьевич и Ирина Андреевна Глобенко – тоже были украинскими селянами. И все прочие, еще более дальние предки, о которых я ничего не знаю, наверняка были крестьянами. Крестьянский характер сохранился у вашей бабушки Тани, возможно – у меня самого и, надеюсь, вы ему тоже не измените.
До революции Митрофан, как и все односельчане, лишь мечтал о зажиточности. Еще подростком мечта о неведомом счастье выгнала его из дому. В Америку он не попал, а после нескольких лет мытарств и приработков в портовом городе Одессе вернулся блудным сыном на родину, чтобы больше никогда не изменять ее крестьянским идеалам. Женитьбы сделал его обладателем приличного по тогдашним понятиям куска земли, а привычка к труду и врожденное упорство обещали его семье не мрачное, во всяком случае, будущее.
Но в 1914-ом началась «война с германцами». Фронт, окопы, грязь, страх и тоска по дому. Потому революция и призыв: «По домам!» воспринимались с радостью. Летом 17-го года Митрофан вступил в партию большевиков, но уже в декабре, возвращаясь с фронта, выкинул партийный билет в окошко теплушки. Видимо, посчитал, что все партийные задачи – уже достигнуты, война окончена, земля – обещана, и в партии крестьянам делать нечего. Надо возвращаться домой и заниматься делом – хозяйством.
Глубокое равнодушие к политике и нежелание участвовать в борьбе партий проявил ваш прадед в годы гражданской войны. Несколько раз его мобилизовывали в армию на борьбу с Деникиным, Врангелем и прочими, но каждый раз он самовольно уходил от мобилизации. Выражаясь языком ревтрибуналов – дезертировал, уклонялся от «борьбы трудового народа с прислужниками, лакеями и эксплуататорами». Он просто хотел крестьянствовать на старой и новой земле, строить дом и укреплять хозяйство.
20-е годы были для Митрофана, наверное, самыми плодотворными и даже счастливыми годами жизни, когда его семья росла (правда, за счет дочерей, лишь шестым и последним родился долгожданный сын Степа), строил новый дом, хозяйство считалось – середняцким, не хуже других (лошадь, корова и пр.)
Они же были и годами памятного детства для его второй дочери Тани. Мое собственное детство полно ее рассказами о быстром полноводном Сейме; о зеленых прекрасных лугах, к которым выходил дворами их новый, крепкий на зависть дом; об отцовском коне Чалдоне и его хитростях, когда он, допустив на свою спину маленькую Татьянку, вдруг начинал ошалело мчаться по лугу, брыкаться и останавливаться как вкопанный, скидывая через голову нахальную наездницу; о собаке Соболе, битой за воровство куриных яиц; о сомах в Сейме, таскавших лошадей и людей; о древнем Путивле; о базарной Бурыни и Конотопе… Но не только радужными бывали ее рассказы о детстве, она помнила и худое в той жизни: и тяжелую работу на полях бывшей панской экономии, и нянченье младших детей, и трудность, с которой давалась школа (в нее приходилось уходить урывками от домашней работы), и скудость одежды, особенно, обуви: одни взрослые обноски на всех детей, так что зимой нередко приходилось бегать босиком по снегу, и в этом никто не видел ничего плохого. Эту деталь: «босиком по снегу» она мне особенно часто поминала, потому что именно в детстве, как осложнение после простуды, она получила болезнь почек, которой страдала всю жизнь и от которой преждевременно умерла.
И все же, и все же – вот эти годы на коне Чалдоне и босиком по снегу – и есть счастливое детство бабушки Тани, ибо большинство нормальных людей называют годы, проведенные с отцом и матерью - счастливым детством.
Несчастья начались «великим переломом» эпохи коллективизации и раскулачивания…
Много времени потратили сельские партийные власти, чтобы уломать вашего прадеда, как бывшего фронтовика, участника «движения за ликвидацию безграмотности» (в ликбезе немного учительствовал), зажиточного и авторитетного в деревне крестьянина – вступить добровольно в колхоз, и тем подать пример другим.
Митрофан твердо отказывался, хотя, наверное, понимал всю тяжесть такого прямого сопротивления. И я понимаю своего деда: он не хотел лишаться земли и хозяйства, которым отдал жизнь, не хотел менять свою хозяйственную независимость на батрачество у нового начальства.
То время было суровым. Сталинским. Колхоз-таки сколотили, а с Митрофаном и ему подобными поступили просто и по закону: обязали растить сахарную свеклу для государственных поставок – на болотных землях, т.е. записали в батраки. Когда пришла весна, ему приказали: сей свеклу, хотя на том поле стояла еще вода, и бессмысленность приказа была очевидна. А может, то была издёвка. Конечно, Митрофан не подчинился. Ах, так – накладываем на тебя штраф. По закону! Штраф был наложен в размере стоимости всего имущества: описали и продали новый дом, амбар, скот, и пр. И покатилось все, и повалилось…
Сжалившись над детьми, начальство разрешило семье временно (только временно) переночевать в сарае-клуне. Этой же ночью клуня загорелась. Еле успели спастись и вынести детей из огня. И жалкую часть оставшихся тряпок. Явились на пожар и власти и тут же обвинили Митрофана, что из-за своей классовой злобы он сам поджог клуню, чтоб не досталась колхозу. И тут же – посадили в кутузку (в сельскую тюрьму). Жену и детей приютили родственники. Урок деревне был преподан. Можете себе представить, как эти события отразились на 16-летней Тане, самой болезненной в семье девочке, в самую-самую пору ее личностного формирования. Как заронили в душу все последующие страхи, нервные и прочие болезни, мнительность и чуткость к боли.
Думаю, что Вашего прадеда эти события поранили в гораздо меньшей степени, хотя речь шла именно о нем и его хозяйстве, его труд и жизнь развеивали по ветру, а самого посадили в кутузку.
В ту же ночь односельчанин, приставленный сторожить «злобного врага колхозной счастливой жизни», сказал ему: «Митрофан Степаныч, не могу взять грех на душу» - и выпустил на волю.
И тот бежал. Недалеко, в тогдашнюю Украинскую столицу Харьков, на первенец сталинских пятилеток – Харьковский тракторный завод. Люди были нужны заводу и его приняли без особых формальностей. Так Митрофан стал пролетарием. Его история – отнюдь не исключительна. Напротив – самая рядовая. Из одной их деревни подобным образом было выгнано, «раскулачено» более двадцати семей. Многие уехали сами. И вся эта масса обездоленных, «раскулаченных» людей оказалась очень нужной (в начавшуюся эпоху индустриализации) рабочей силой. Именно эти «освобожденные от земли» люди и стали главной основой трудовой армии новостроек сталинских пятилеток. Рабочим классом сталинских лет, героями индустриализации.
Через год Митрофан перебрался подальше от родины, прямо в Москву (пригодился Одесский опыт молодости), где со временем стал одним из старейших и уважаемых рабочих-инструментальщиков завода «Красная труба» (ныне Московский трубный завод). Неоднократно награждался грамотами и медалями, местами на доске почёта и бесплатной путевкой в сочинский санаторий… Поистине трудовой человек нигде не пропадет, после любого удара, как кошка встает на лапы, оказывается вновь «уважаемым и авторитетным» человеком.
 Ваш прадед, третий слева сверху в группе награжденных работников «Красной трубы», заснят со Шверником Н.М. (тогда Председателем Президиума Верх. Совета СССР). Меня особенно смешит, настолько не вписывается его мрачная, почти «зэковская», по-крестьянски упорная фигура в общий строй окружающих Председателя лиц!
Ваш прадед, третий слева сверху в группе награжденных работников «Красной трубы», заснят со Шверником Н.М. (тогда Председателем Президиума Верх. Совета СССР). Меня особенно смешит, настолько не вписывается его мрачная, почти «зэковская», по-крестьянски упорная фигура в общий строй окружающих Председателя лиц!
Всю эту историю вынужденного перехода Вашего прадеда из вольных крестьян в наемные рабочие, в «передовой отряд пролетариата» (завод черной металлургии), в нашей семье было принято называть историей его раскулачивания. Однако формально мы неправильно употребляли этот термин. И не только потому, что Митрофан Степанович никогда не держал ни магазина или лавки («кулак» - в дореволюционном понимании), ни батраков («кулак» в послереволюционном, партийном понимании), но и потому что процедура сгона его с земли не похожа на официальное «раскулачивание»: подготовленное комячейкой собрание бедноты, на котором зажиточным односельчанам присваивалось звание «кулака» и присуждалась высылка с семьей в Сибирь – с конфискацией всего имущества (кроме одежды на себе). Так из деревни выслали в 1929 году лишь одну семью. А потом по-другому выгнали гораздо больше.
Вашего же прадеда эта «классическая» процедура раскулачивания не касалась. Его хотели обвинить в поджоге собственной семьи в сарае, но из-за побега и хлипкости самого обвинения (позднее, по рассказам односельчан, один из комсомольцев в подпитии хвастался тем, что собственноручно поджигал «дядю Митрофана») официального уголовного дела и розыска, видимо, не возбуждали. Да и много тогда было «таких дел» - органы с ног сбивались. А цель: запугать деревню примером была достигнута. Таким образом, официально в деревне Митрофана и его детей считали – то раскулаченными (и выдавали в том официальные справки), то лишь уехавшими из деревни в город (и давали чистые документы). Последнее и обеспечило не только перспективу спокойной пролетарской жизни для него самого, но и возможности образования и любой карьеры для всех его детей.
По существу же, конечно, все произошедшее было раскулачиванием - беззаконной конфискацией имущества и изгнанием из деревни. Дети его чувствовали себя детьми раскулаченного и скрывали это ущербное чувство «без вины виноватого». Я сам только иногда, с вызовом, называю себя внуком раскулаченного. Но надеюсь дожить до времени, когда вы сможете без вызова, а просто с достоинством, сказать о себе, как о правнуках раскулаченного.
Таким образом, вся долгая московская жизнь глобенковской семьи, в том числе и Тани, протекала под гнетом тяжелой семейной тайны – раскулаченных, но случайно избежавших сибирской ссылки. Страх перед «черным вороном» (т.е. ночным арестом работниками госбезопасности), которыми болели граждане в эти годы, для прадеда и его семьи был особенно остр и мучителен. На нервы и психику детей страх действовал с разрушительной силой, вырабатывая удвоенную осторожность и чуткость. Даже при внешнем благополучии жизни и карьеры (в анкетах – «пролетарское происхождение», образование – вплоть до высшего, возможность допуска к секретной и даже «руководящей» работе, поездки заграницу и т.д. и т.п.).
А теперь пришла пора рассказать о маме бабушки Тани. Ваша прабабушка Поля еще, слава богу, жива и, бог даст, долго еще будет с нами. Вы ее сами знаете, а в будущем, может, узнаете больше. Но я хочу рассказать о ней прежней – давешней и молодой, когда-то родившей девочку Таню и ее воспитавшей.
Пелагея Михайловна Шевцова родилась в 1894 году в соседней, уже русской деревне Нечаевке, в весьма богатой крестьянской семье. Она называла мне своих родителей – Михаила Сергеевича и Варвару Васильевну Шевцовых, и даже вспоминала свою бабушку Марию и деда Сергея Александровича Шевцова. И, наверное, крестьянское (а может, и не крестьянское) имя вашего пра-пра-пра-прадеда Александра Шевцова обозначит самую дальнюю вглубь истории ступень знания своих предков. Время жизни Александра Шевцова – время Александра Первого и Александра Пушкина.
Поля была одной из семерых дочерей. Семь же сыновей умерло в детстве. Из переселения на Кубань ничего не вышло, но какие-то деньги и земли (кубанские и украинские) у семьи оставались. Вместо умерших сыновей работали батраки. В приданное за каждой дочерью Михаил Сергеевич давал десятину земли – большое по тем временам богатство – главная надежда Митрофана на успех.
Кроме этой земли и всяких тряпок, Поля принесла в свою новую семью железное здоровье, неутомимость в работе, простосердечие и доброту. И сегодня у женщин двойная нагрузка: на работе и дома. Однако прежняя жизнь крестьянки была много тяжелее. На ней лежала ответственность и за детей и стариков, и за домашнюю скотину-птицу, и за помощь мужу в поле. Ранний (далеко затемно) подъем, чтобы успеть «нагодувать скотину», и поздний (заполночь) конец прядильной домотканой работы. Таков был обычный день молодой Поли и таким же он был летом, когда вставать надо было с первыми лучами солнца, а возвращаться с поля лишь в сумерках. До сих пор в ее рассказах о прежней жизни звучит обида на Митрофана, который летом работал много и тяжело, зато зимой, после осенней страды, в перерывах между молотьбой, позволял себе спать, отдыхать (много-много), но не делал ни малейшей попытки помочь ей, соблюдал традиции (по традиции, возня с детьми, готовка еды, «годувание скотины», домоткачество и др. считались женской работой).
Так и жила Поля в русле старых традиций, деля силы и душу между тяжкой работой, детьми и церковью. Наверное, единственным ее развлечением была церковь по воскресениям, да стакан водки на домашних праздниках.
У Поли было шестеро детей, но две девочки умерли в младенчестве, выросли же Настя, Таня, Соня и Степан. Ко времени раскулачивания Настя и Таня были по деревенским понятиям почти взрослыми, вполне способными начать самостоятельную жизнь. Долго жить на милостыни родственников невозможно. И вот через год в 1932 году, в Харьков уезжают старшие дочери, а с младшими детьми в 1935-м Поля перебралась к мужу в Москву. С той поры жизнь ее круто переменилась.
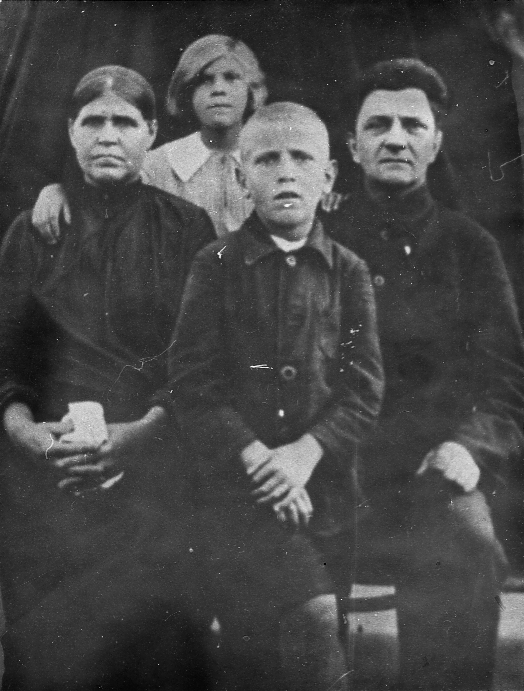
Семья Глобенко в Москве 1935 года: Пелагея Михайловна, Соня, Степа, Митрофан Степанович.
Для своих младших детей, Сони и Степы, она стала настоящей матерью-пролетаркой. Я говорю – настоящей, потому что, несмотря на свое «зажиточное» происхождение и крестьянскую жизнь, у бабушки были изначально ей присущие пролетарские черты: желание жить одним днем, бескорыстие, простодушие, привычка работы на других и пр. Если для Митрофана его пролетарское положение было лишь внешним мундиром, а сам он оставался прежним крестьянином, то с Полей было иначе. А самое главное, только здесь она стала ближе к детям.
Не надо думать, что в деревне, работая дома, женщина ближе к своим детям, чем в городе, где она уходит каждый день на завод. В деревенской семье обязанность присматривать за детьми лежит, как правило, на старших детях или стариках. Мать лишь урывает от своих дел минутки, чтобы покормить грудью очередного младенца. Не было даже самого короткого декретного отпуска: роды прямо в поле – не литературный вымысел, а рядовая бывальщина.
В городе же дети получают от матери гораздо больше внимания. Для вашей прабабушки ее младшие Соня и Степа стали как будто первыми, настоящими (городскими) детьми. Старшие дочери невольно отдалились. Может, в этом корень сложных, немного отчужденных взаимоотношений впоследствии, когда все дети съехались к родителям в Москву.
Я не знаю, конечно, что именно от своего характера, доброты и работоспособности передала Поля своей дочке Тане. Описываю лишь то, что знаю: ваша бабушка Таня росла в суровых условиях, когда матери, в общем, было не до нее. И может, в этом объяснение того, почему Таня так дорожила своей семьей, так заботилась о сыне и внуках.
Харьков. Учеба и любовь. 1932-1935 гг..
Через год после побега Митрофан тайно, ночью, вернулся в деревню. Вернулся, чтобы забрать старших дочерей и пристроить их в городе. Той же ночью они ушли. Справки из сельсовета с припиской – «дочь раскулаченного», кажется, были получены заранее. Долго потом мудрил Митрофан с этими справками, мял их, тер и подклеивал, чтобы проклятая фраза исчезла, и дочки могли в городе получить потом «чистые» паспорта. С Таниной справкой это удалось.
А пока две деревенские девочки, босые и в платочках, вдруг оказались в столичном городе. Предоставленные сами себе. Отец жил в рабочем общежитии за городом, их же поселил у рынка, за стирку хозяйского белья (долго потом Таня помнила эти горы белья), и видел их лишь урывками. Надо было устраиваться на работу и потому они ходили по городу, и младшая читала объявления о приеме (старшая читать не умела). Долго ходили и безуспешно. На босых девчушек не велик был спрос в эпоху индустриализации.
Но, в конце концов, устроились: Таня нашла себе место санитарки в водолечебнице, а Настю отец пристроил-таки на завод.
Теперь Таня жила практически одна, лишь наезжая к отцу и сестре в заводской поселок за хлебной помощью: основная зарплата состояла в хлебном пайке. Если на заводе давали в день по 800 г, то в больнице лишь 400 г. Понятно, что старшие немного подкармливали младшую.
Однако через год, а может меньше, начались «чистки» от раскулаченных и прочих. Митрофан уехал в Москву, а Настя – в деревню. Счастливые – увертывались как-то от ссылки или лагеря. Настя даже стала колхозницей.

Т. Глобенко до 1935 г. Таня же осталась совсем одна в большом городе. Мыть и убирать множество ванных комнат за бесконечной чередой больных, готовить сами лечебные ванны во влажной и душной атмосфере для Тани, страдавшей с детства нефритом, было очень большой, предельной нагрузкой. Эту нагрузку она всё же выдерживала, а времени для тоски и переживаний не оставалось.
А потом – она привыкла к городу. Застенчивую и безотказную девочку заметили медсестры и врачи, заметили и стали выделять, поручать менее тяжелую физически, но более квалифицированную работу, приглашать на учебу в медицинский техникум при лечебнице. Правда, у Тани к тому времени было всего два или три неполных года посещения деревенской школы. Она едва могла читать. Однако в то бурное время, когда вместо и на место старой интеллигенции в массовом порядке готовили новых («красных») специалистов из бывших рабочих и крестьян, недостаток начального образования не был большой преградой. Написали, что Таня Глобенко окончила пять классов и направлена как медработница в вечерний медтехникум. И подобно многим своим сверстникам, она не обманула надежд посылавших ее – схватывала верхушки знаний, сумела подправить начальные прорехи просвещения. Большего для тогдашних «новых интеллигентов» и не требовалось. Да и не одна она сделала такой рывок из «грязи в князи». Она любила вспоминать типичные ответы своих подруг на занятиях: «Что такое тундра? - … это такой зверь», или «Какой пост занимает Сталин? – Царь». Причем она не скрывала, что сама вполне могла отвечать таким же, если не худшим образом.
Вот таких простодушных, но трудолюбивых крестьянских детей учебные программы того времени шустро и без особой волокиты переводили в разряд образованных людей. В 1935 году Таня Глобенко окончила техникум и получила звание фельдшера. А вдобавок – на всю жизнь огромное уважение к науке, почти веру во всемогущество медицины, ее лекарств и рекомендаций. И уж самой собой и потом – мечту дать сыну высшее образование. Безусловность такой веры в науку, стремление полностью и категорично выполнять ее заветы, во многом осложнили ее жизнь, заставили тратить массу сил и нервов, например, чтобы убедить мужа бросить курить, а сына – проходить лечебные процедуры. Сама же она беспрестанным лечением и самолечением, наверное, не улучшила, а ухудшила свое здоровье…
В целом же годы учебы были трудным, но хорошим периодом в жизни вашей бабушки. О «студенческих годах» человек обычно тепло вспоминает. А бабушка Таня – особенно. И не мудрено. В те годы кругом свирепствовала неустроенность, людское горе, голод. В 1934 г. на улицах самого Харькова валялись трупы умерших, и прохожие перестали обращать на них внимание. Ссылки и лагеря, а у Тани - прочная работа, перспективная учеба, ежедневный паек на 400 г. хлеба (карцерная норма в лагерях -300г.), теплое общежитие с новыми и ставшими близкими подругами. Она тоже обходила привычно трупы голодавших на харьковских мостовых, она знала, что в деревне ее сестренка и братишка пухнут с голода, но помочь им не могла, а себя чувствовала неожиданно кем-то облагодетельствованной. Наверное, изливала свою благодарность на всех окружающих и легко воспринимала их «научную веру».

Таня в 1935г. В 1935 году Таня окончила медтехникум, перешла в сословие «среднего медицинского персонала» и переехала из общежития на частную квартиру в Новую Баварию (поселок немцев-колонистов под Харьковом), где ей выделили «угол» (так звали койку в одной комнате с другими квартирантами или даже хозяевами). Она стала самостоятельным человеком.
К этому времени относится появление первых фотографий Тани, выполненных каким-то любителем, находившемся на излечении и усиленно внимательном к миловидной сестричке. И понятно. Окончание учебы высвободило у нее время для отдыха. Более квалифицированная работа, большая плата и питание – подправили ее здоровье и превратили из подростка в цветущую и привлекательную девушку. Вполне в духе 30-х гг. Меня до сих пор поражает этот почти мгновенный переход от деревенской девочки из религиозной семьи к уверенной в себе «современной» молодой особе!
Но думаю, «модный облик» был навеян ей средой, кинокартинами, девчачьими обсуждениями. Как будто она продолжала свое образование, но не медицинское, а жизненное, и вполне справлялась с предложенной ей ролью модной девушки. Замужество быстро прервало эту игру.
Не кажется ли вам удивительным: грозовые годы, истерический накат чисток и репрессий, а для одинокой 20-летней девушки, дочери раскулаченных, - годы образования, самоутверждения личности, годы личного успеха?
Из своей общежитской компании она, кажется, первой вышла замуж. Еще в годы учебы у нее было трое поклонников, но довольно быстро она предпочла одного, самого доброго и положительного, самого застенчивого и красивого, в красивой летной форме: сказалась крестьянская интуиция. Это и был мой отец, а ваш дед – Владимир Климентьевич Сокирко.
Недавно он рассказал мне трогательную историю их начала. Природная застенчивость его губила – не умел и не мог решиться ни то, чтобы признаться, хотя бы подарить что-то понравившейся девушке, и находился в безысходном состоянии. Наконец, после очередных летних маневров в Крыму (он был самолетным техником) решился: купил там южнобережную ракушечную шкатулку, а в нее засунул кусок тонкого, дефицитного и неодолимо привлекательного в те годы шелка (в материале он, по привычке бывшего портного, разбирался). По возвращению же в Харьков сумел-таки передать шкатулку Тане. Она была благодарна и удивленно отложила коробку в сторону. Но когда немного времени спустя обнаружился сам шелк, слезы покатились по ее лицу, и удержать их не было сил.
Что было в этих слезах – радость от великолепного тогда подарка? Благодарность? – Наверное. Но, думается, главной была радость опознания, узнавания долгожданного и дорогого человека, который вот так может угадать твою мечту и вот так самоотверженно и бескорыстно, ради тебя самой – ее осуществить.
Легко можно съязвить: «Человека не замечала, не любила, пока отрез не подарил". Но не заблуждайтесь, мои дети, у ваших бабушки и деда была настоящая любовь, на всю жизнь. А почему она началась с шелка – подарка, так это легко понять: в таком вещественном, реальном действенном виде лучше, чем в тысячах слов, проявилась готовность вашего деда угадывать и исполнять желания своей любимой, проявилась близость их вкусов, желаний, душ, если хотите. Проявилась не на словах, а на деле.
Подарок шелка был, прежде всего, духовным делом, и может, в нем важнее всего было не исполнение мечты самой по себе, сколько та неловкость и самоустранённость, с которой его не дарили, нет, а втискивали в руку, передавали, всучивали что-либо… Та неподдельная стеснительность, которая неопровержимо свидетельствует о чистоте намерений, убеждает, что человек – не из племени щедрых ухажеров, для которых вот этот шелк – лишь расхожее средство пустить пыль в глаза, а напротив – что это свой, родной и близкий, что он мучился, старался, угадывал и находил, делал себя несвойственным и почти необыкновенным – только из-за нее одной. Так неужели такой шелк - не повод для радостных слез? И разве вы не находите сходство с шелком «Алых парусов» у А. Грина?… Правда, там было немного грубее, богаче и обнаженнее: подслушанное, а не угаданное желание Ассоль, много больше шелка, давление блеска и роскоши…
Еще ничего не было сказано, ни мысли, ни намека, но с этого момента судьба Володи и Тани (и вместе с ними и наша с вами судьба) – была определена…
После этого случая они не долго жениховались. Таня жила под Харьковом и поездом ежедневно ездила на работу. Дорога была долгая и страшная для молодой девушки. Вместе с ней мучился и добровольный провожатый. Сколько так могло длиться? Положение осложнилось еще тем, что в первые месяцы после учебы Таня оставалась и без стипендии и без зарплаты, от родителей помощи ждать не приходилось, а попросить денег взаймы даже у Володи, с которым гуляла каждый вечер, она не могла, хоть убейте. Предпочитала не есть, дожидаясь первой получки. И так отчаянно таяла на глазах, что терявшийся в догадках Володя, все же решился спросить, а потом и навязать взаймы деньги, которые (впоследствии он это с торжеством отмечает) – так и не пришлось возвращать.
Слезы от подарка, ежевечерние прогулки, принятые деньги: Володя смелел день ото дня. И, наконец, осмелел до следующих слов: «Таня, а что ты мучаешься с этой Новой Баварией? Давай в ЗАГСе распишемся и будем жить у меня в Харькове…» Не знаю, так ли смело он говорил эти слова, но речь шла как будто о квартирах, об удобном способе устранить утомительные поездки. Сам брак оказался в разговоре как бы в тени, второстепенной деталью, почти фиктивной и временной мерой. Так им легче было разговаривать о столь таинственном и почти страшном предмете.
Потом ваша бабушка так объясняла мне, почему не сменила своей фамилии: «Думала – а зачем? Поживем немного, не понравится – разойдемся». Ну, чем не легкомыслие? Не напускное, не наигранное – а настоящее? Ведь фамилию она так и не сменила.
Это трудно понять, но такова противоречивая реальность: настоящая любовь совмещалась с не менее искренним намерением «сразу же разойтись, если не понравимся». Серьезнейшее сообщение о том, что, по мнению врачей, из-за болезни почек ей нельзя рожать, сопровождалось на равных полушутливым условием: «Знаешь, Володя, мне нравится, когда парень красиво курит, но это вредно, обещай, что бросишь». В том же тоне все сообщения и условия принимаются... Так мне и слышится этот якобы непринужденный разговор, где двое уславливались о важнейших предметах – как бы на периферии своего сознания, ибо все их существо в эти минуты было захвачено ликующим чувством сказанного слова «Да», праздника Великого Согласия.
Да и что они могли сказать словами? Словами комсомольских общежитий 30-х годов? Шел привычный легкомысленный и независимый разговор, а души между тем молча и по врожденному умению ловко закладывали первые камни вечной семьи.
Свадьбы не было. Пока расписывались в ЗАГСе, кто-то из Володиных друзей сходил в магазин, купил стаканы, тарелки, вилки, вино и продукты, кто-то вместо Володиного закутка освободил им комнату – и все это стало одновременно и свадебным праздником, свадебным подарком, и началом семейного хозяйства.
Игра кончилась. Началась жизнь.
А теперь я должен подробнее рассказать о третьем и самом главном человеке в жизни бабушки Тани – вашем деде, каким он был в прежние годы
Владимир Климентьевич Сокирко
родился в 1908 году и вырос на родине знаменитого украинского поэта – в селе Кирилловка (ныне Шевченково) в достаточно культурной по сельским понятиям, но неблагополучной семье. Его отец, а ваш прадед – Клим Иванович Сокирко вместе со своими братьями и сестрами получил по тем временам неплохое образование. По-видимому, их отец, а ваш прапрадед Иван Сокирко, славившийся редким уменьем находить в этой жаркой стороне воду и отрывать колодцы, - обладал немалыми средствами, если мог отдать своих многочисленных детей не на работу, а на учебу. На сохранившихся фото они выглядят вполне интеллигентными и даже респектабельными господами. Но, конечно, до «настоящих господ» им было очень и очень далеко. Так, брат Клима Ивановича был женат на киевской горничной, сестра вышла замуж за учителя, бывшего семинариста, сам Клим Иванович вначале учительствовал, а в последние, послевоенные годы - шил одежду и шапки.Мне почти ничего не известно о маме деда Володи, кроме имени Антонина, да смутных слухов. Если интересно – расспросите сами дедушку, но вряд ли он станет охотно отвечать. Неизвестно, кем была Антонина, какой семьи и воспитания, почему вышла замуж и почему бросила мужа и маленького сына. Я слышал лишь туманные предположения о том, что она была красива и из богатой городской семьи, но была взбалмошной и жила не для дома, а для чужих людей. Ее изображения на семейных фото Сокирок аккуратно вырезались. Трудно понять, в чем тут дело.
Во всяком случае, портреты и единодушные рассказы свидетельствовали о Климе Ивановиче, как о прекрасном, добром и душевном человеке, сочувствовавшем даже революционерам, и не дают возможность заподозрить здесь какое-либо семейное притеснение или оскорбление. В то же время судьба этой странной женщины, прожившей долгую жизнь (она умерла лишь в 50-х годах, так и не проявив ни малейшего желания увидеть сына, не говоря уж о внуке) – на положении домработницы, батрачки-приживалки в какой-то крестьянской семье, вызывает у меня не одни лишь отрицательные эмоции. Возможно, у нее, действительно, был поврежденный интеллект, но скорее она была больна гораздо более распространенной болезнью дореволюционной молодежи богатых семейств – болезнью «самоотверженности, благородства». Наивысшей степени эта болезнь проявлялась у народников, террористов, революционеров. Что для них значила брошенная семья, убитые горем родители, оставшиеся сиротами дети – в сравнении со счастьем «разбить мещанский уют», делать революцию? Но как у этой многократно воспетой героической самоотверженности были свои темные оборотные стороны, так и в нашем случае, странные, ненормальный альтруизм Антонины лишил сына матери. И с этим совершил непростительное преступление, несравнимое с принесенной где-то пользой.
Володя воспитывался в семье отца, во время войны – с бабушкой, а когда Клим Иванович вернулся из австрийского плена – то опять жил вместе с ним. Однако сразу же после гражданской войны отец умер от тифа, и Володя остался лишь с бабушкой, круглым сиротой, несмотря на то, что где-то рядом жила, как сейчас говорят, его биологическая мать.
Горечь сиротства – главное воспоминание дедушки Володи. Вот у него, действительно, не было счастливого детства, пусть он был лучше одет, обут и накормлен, чем босые девчонки в селе Гвинтовом. И как только чувство обиды на мир не захлестнуло его? Наверное, деятельная натура деда Ивана Сокирко не дала это сделать. После смерти отца он поступает «в люди», в подмастерья к деревенскому портному, довольно быстро выучивается портняжному мастерству и заводит самостоятельное «дело», постепенно прибирая к рукам сельскую клиентуру (при помощи и поддержке учителя). И кто знает, может, так и остался бы уважаемым на селе портным до конца жизни, если бы на громадные сдвиги в стране, если бы в селе вообще можно было бы остаться независимым ремесленником.
Володя вступил в комсомол. Социальное положение бедного сироты и революционные симпатии родственников увлекали его на путь комсомольского активиста.
Ваш дед был одним из комсомольских вождей-секретарей в огромном селе Кирилловка: сам участвовал в пионеризации детей, в их военном воспитании, в закрытии церквей и сожжении икон (в одной общей яме), в конфискации «излишков хлеба» и высылке раскулаченных.
Не все ему в те времена нравилось, многое он считал «перегибами» и, в духе знаменитого письма Сталина, - «головокружением от успехов». Но многолетние контакты с сельскими партийцами приучили его, что «партия всегда права», что все недоумения со временами разрешатся и что главное – дисциплина. Приучили «не уклоняться».
Таким он и остался надолго (по крайней мере, до ХХ съезда). Не фанатичным, нет, а человеком, убежденным, что в стране все делается в основном правильно. Он осознавал ограниченность своих знаний, невозможность противостоять убеждающей силе «комиссаров» и потому находил для себя опору лишь в партийной вере.
Мне помнится одна из нечастых стычек (после войны, но до 1953 года) между отцом и мамой в споре о колхозах: мама говорила, что они разорили крестьян, довели народ до голода и нищеты, а отец оборонялся утверждением, что «она ничего не понимает», что «так было нужно». Как же он обрадовался моей поддержке, тогдашнего четверо- или пятиклассника, всунувшего в их спор фразу из учебника о том, что «кулаки прятали и гноили хлеб, чтобы рабочие голодали, и потому были созданы колхозы»! Как будто услышал слово комиссара! Вместе мы «задавили» спорящую маму, хотя и не переубедили. Думаю, что увидев, как серьезно воспринимает суть слов ее маленький Витя, она испугалась, потому что повторив несколько раз «не нужно нигде болтать о глупостях, о которых мы здесь говорили», а то «придет черный ворон…» - она закруглила опасный разговор.
… Меня давно интересовал вопрос: как могли сдружиться и сойтись на всю жизнь люди столь разных судеб и положений, как ваши дед и бабушка? Глядя на дореволюционное фото маленького, еще дошкольного Володи, богато одетого и обутого, сытого и ухоженного, трудно предположить, что он станет в будущем комсомольцем и раскулачивателем, а вот «босая по снегу» девочка Таня, фото которой даже не сохранилось (а может и не было), - станет жертвой комсомольцев (поджог клуни) и раскулачивания. Как противоречит это схеме: «бедняки кулачили богатеев». И как соответствует крестьянской догадке: «баре снова пробрались в начальство и снова закабаляют народ»!
Я решусь объяснить совместность своих родителей. Если вдуматься, то в отношениях Вашего деда и Вашей бабушки к жизни вообще и коллективизации деревни в частности – не было большого различия. Оба они были крестьянами по месту рождения и воспитанию. Им обоим было неприятно раскулачивание, но оба вместе с тем признавали неизбежность этого, пусть в разной степени и с разной моральной оценкой (Таня не раз осуждала своего отца за «ненужное упрямство и непокорство») и потому оба чувствовали свою неответственность за происходящее. Таня не отвечала за «упрямого отца», а Володя не отвечал за «неизбежное» участие в «неизбежной» коллективизации. Их обоих нес поток времени, и каждый играл навязанную ему роль комсомольца или раскулаченного. А ко времени встречи в Харькове они были одинокими сиротами, нечаянно нашедшими друг друга в бушующем мире.
Ваш дед недолго комсомольствовал в деревне. За коллективизацией шла волна индустриализации и массового создания технических кадров. Сельский партийный секретарь, симпатизируя своему комсомольскому помощнику и исповедальнику и в душе, видимо, отнюдь не радуясь происходящему, сам вытолкнул его в город, напутствуя словами: «Езжай, Володя, в город учиться, пока можно. Здесь тебе делать нечего».
Вообще-то Володя учился в церковно-приходской школе, но революция и гражданская война помешали ее окончить. Однако полученных знаний и комсомольской биографии оказалось достаточным, чтобы поступить, а потом и окончить киевский техникум водного транспорта и портовой техники. Но работать по специальности ему не пришлось (неразбериха в планировании тогда была, быть может, не меньшей, чем сейчас): забрали в армию, а через год оставили в сверхсрочной службе в части по техническому обслуживанию молодой еще тогда авиации. После женитьбы он совсем укоренился в своей новой специальности, теперь уже надолго. Крестьянское трудолюбие, с каким он сначала шил брюки односельчанам, потом руководил пионерами и комсомольцами, теперь обратилось на самолеты. Ни у кого из техников не было столько запасных частей в загашнике, столько инструмента для ремонта, так тщательно не готовились самолеты к вылетам, как в звене Сокирко. Никто столь много времени не проводил на аэродроме, как Сокирко. За это его хвалили, поручали ответственную работу, перевели на обслуживание эскадрильи знаменитого героя челюскинской эпопеи – летчика Каманина, будущего шефа советских космонавтов. Не секрет, что авиация в те годы имела высокий статус, т.е., можно сказать, что ваш дед хорошо устроился. И всё же, хочу еще раз повторить: крестьянское трудолюбие везде приносит свои плоды.
Замужество и материнство. 1935-1941 годы.
Мне ничего толком не известно, как Таня перешла от мысли «пожить немного, если понравится» до осознанного решения строить семью прочно и, конечно же, с детьми, хотя бы одного заиметь ребенка. Просто, наверное, она любила своего Володю, чем дальше, тем больше. И потому хотела и ему, и себе прочного человеческого счастья.
Думаю, желание иметь ребенка в ней долго боролось с безусловной верой в силу медицинского запрета на роды. Во всяком случае, сама она ослушаться его не могла и изводила нерешительностью себя и мужа. Даже командование части обратило внимание на пасмурный вид старшего техника. В результате нескольких душеспасительных бесед и наведения справок комиссаром полка состоялся разговор врача-специалиста с будущим отцом: "Хорошо, голубчик, пойдем с Вами на этот риск, пусть она рожает. Сделаем все от нас зависящее, чтобы это ей не повредило. Но и Вы обещайте выполнять все рекомендации по уходу и что будете следить за ее здоровьем...»
Володя обещал, и с тех пор его жизнь стала выполнением этого наказа: беречь здоровье жены, выполнять все врачебные наставления, не раздражать и пр. и пр. Конечно, далеко не все было в его силах, даже привычки к курению он не смог преодолеть, но правило беречь хрупкое здоровье жены, выполнять все ее требования засело в него крепко, стало стилем совместной жизни. Саму смерть бабушки Тани он воспринял как свою тяжелейшую неудачу, недосмотр, недогляд, как будто он не исполнил обещание, данное очень давно и очень серьезно
В 1937 году родилась моя старшая сестра. Как странно так звать девочку, оставшуюся младенцем. Назвали ее Валентиной - бог знает почему, ведь ни у кого в роду таких имен не было. Несмотря на все трудности и опасения, здоровье роженицы было нормальным, девочки – тоже. Однако 4-х месяцев от роду она умерла от воспаления легких - простейшей сегодня болезни. Но тогда еще не было пенициллина, и маленькая жизнь загасла...

Таня в 1937г. Что было в это время с Таней? - Я и представить себе не могу. Так долго вынашиваемый в мыслях, а потом в теле, один раз позволенный дитёнок, погиб прямо на глазах, на руках. Необратимо. Все что я сам ощущал с ее собственной смертью, было у мамы много острее и больнее, давила еще и случайность, абсурдность произошедшего: не во время опознанная болезнь, халатность приходящей детской медсестра и вот... Тяжесть была невыносимой: «Все что угодно, только верните мне мою Валечку. Никогда больше, никаких детей, ничего не надо, только верните мою Валечку...
Наверное, от этой смерти Таня не смогла отойти всю жизнь. Наверное, от нее она стала еще тише, грустнее и психически неустойчивей. Вина детской медсестры усилила Танину недоверчивость, мнительность. Ни о каком ребенке больше она не хотела и думать...
А вне дома между тем шел 37-й год. Таня и Володя, конечно же, знали о многом: и о разоблачениях, и об исчезновениях людей, и о процессах над вредителями, но отодвигали всё невероятное и непонятное в непроговоренную глубь сознания. Наверное, им представлялось, что их лично коснувшиеся трагедии – и раскулачивание и смертельный голод - уже отыгрались и ничего не должно угрожать. На правах воспитанников советской власти они наслаждались любимой работой, неголодной жизнью и пр. и пр. Но сознание слало обратно тревожные сигналы, делая личную и семейную жизнь неуверенной и непрочной, порождая неврозы и срывы. К тому же Таня продолжала себя чувствовать «недораскулаченной», и над Володей в 1938 году начали сгущаться тучи.
В Шевченкове был арестован (а потом исчез без следа) муж Володиной тети Груни, бывший учитель математики, объявленный "попом" за то, что учился в семинарии (на аналогичный факт биографии И.В.Сталина почему-то не обращали внимания). Как водится, в воинскую часть пришло соответствующее сообщение с требованием повышенной бдительности к родственнику выявленного "врага народа". Володю сначала освободили от должности комсомольского секретаря и от других общественных нагрузок и начали готовиться к его проработке. Поскольку симптомы и течение этой "болезни" всем были хорошо известны, так же как и ее неизбежный исход - арест, то Володя чувствовал себя без вины виноватым, но внутренне уверенным в неминуемой гибели и покорным ей.
Неизвестно, что помешало обычному течению этой болезни. Неизвестно, почему Володю скоро восстановили в прежнем положении на работе, "вернули доверие", а у его жены отлегло от сердца. Сам он объясняет это чудо влиянием комиссара полка, который его хорошо знал и хлопотал о нем. Возможно. Но скорее - просто повезло: 38-й год идет под знаком исчезновения Ежова, борьбы с перегибами в борьбе с вредителями, временного притормаживания разогнавшейся машины арестов. Если в 37-м году "заступники за арестованных" обычно сами шли вслед за теми, кого пытались спасти, то в 38-м году некоторых удавалось спасти (потому что чрезмерного количества арестов стало не нужно).
Вот так и жили Таня и Володя в свое молодое, счастливое время двадцатилетних (53 года на двоих), и жизнь брала свое...

Семья Сокирко, февраль 1939 года: Володя, Таня и сын Виктор. 1939 год начался с меня – я родился. Назвали Виктором, в честь двоюродного Володиного брата, харьковского студента (в 42-ом погиб артиллерийским лейтенантом). Родился я легко, был толстым, веселым и здоровым. И как-то вдруг все вокруг упростилось и образовалось. Боль от потери Валентины утихла, сын радовал, дали вторую комнату, у родителей с сестрой и братом в Москве также все устроилось. Таня бросила работать и стала вести жизнь офицерской жены. Фотографии того времени выдают сильное изменение ее облика. Она округлилась, одомашнилась, во всех ее позах сквозит улыбка и ублаготворенность. Счастье.
После поездки в Москву к родителям, в 40-м году состоялась поездка к сестре в Гвинтовое к старому дому, не боясь и не стесняясь прошлого раскулачивания. Казалось бы, все страхи остались позади - впереди простиралась ровная счастливая жизнь. Эти годы бабушка Таня (да и не только одна она) вспоминала всегда как самые лучшие, благополучные, самые спокойные.
А вернее, надо говорить в лучшем случае об одном годе. Ведь в сентябре 1939 года вспыхнула вторая мировая война, и каждому военному было ясно, что без нашего участия в неё не обойдется. 0 каком спокойствии могла идти речь?
Правда первые два года война была трагедией для иных народов, для нас же она обходилось тревогой и малыми военными действиями (в Польше и в Финляндии, где участвовал и ваш дед).
В бешеных водоворотах военных гроз и внутренних репрессий расцветало семейное счастье ваших предков и всего их поколения – они строили своё благополучие. И правы, потому что жизнь коротка и вся состоит из коротких мигов: сколько успел, то твое. Бабушка Таня смогла-таки родить ребенка и построить полноценную семью в предвоенные годы, и этим создала всех нас.
А света от воспоминаний о "благословенном довоенном времени» ей хватило не только на тяжелые военные годы, но и на всю жизнь.
Война. 1941 -1945 годы
22 июня 1941 г. Главная война. Муж сразу же, с первого дня - на фронт, сын - в ясли, а фельдшер Глобенко Т.Д. мобилизована в тыловой госпиталь.
Через несколько месяцев, осенью - эвакуация вместе с госпиталем в далекую-далекую Сибирь, Красноярский край, г.Минусинск. В спешке. Брошена на разорение и уничтожение квартира, созданный своими руками родной дом. С собой разрешено брать только детей, одежду и еду на дорогу. Но каким-то отчаянием она взяла с собой еще мужнин костюм и семейный ковер (он сохранился до наших дней)./p>
Бомбежка состава в пути, поездная неразбериха, обиды на начальство, кража и потеря вещей, временная вынужденная разлука с сыном на несколько дней в Новосибирске. Переживаний хватало, только поворачивайся... Проняло даже меня - именно с этой дороги в Сибирь начались мои личные воспоминания.
И наконец, год жизни в Минусинске - на военном положении, впроголодь, c работой сверх головы. А главное, томила тревога за мужа. Лихорадочное ожидание писем, суеверная боязнь почтальонов с их похоронками. Задержка писем на месяц-два представлялась уже как "пропал без вести" или даже "погиб". И правильно представлялась - сколько было таких примеров.
Судьба, однако, их хранила. Сколько дорог и отступлений прошел Володя, вытаскивая свою дорогую самолетную "технику" из безнадежных окружений, сколько бомбежек перенес, пули и осколки рвали на нем одежду и амуницию - но за всю войну самого не тронули ни разу. Счастливее!.
Зимой 1943 года Таня добилась разрешения перевода в Москву к родителям (вышли льготы для военнообязанных матерей с детьми) и переехала, став медсестрой здравпункта завода "Красная труба", где работали все Глобенки. Здесь она проработала почти до конца жизни, 30 лет.
Фотографии военного времени показывают Таню неестественно худой, красивой, с блестящими глазами. И куда подевалась ее довоенная полнота? Конечно, заработок и паек медсестры, работавшей по 12 часов в сутки, был невелик, но офицерский аттестат от мужа был существенным подспорьем, позволял не голодать, хотя и не давал есть досыта. Мама часто вспоминала какой-то Новый Год (наверное,1944) и, следовательно, мой день рождения, когда после украшения елки бумажными игрушками, я просил есть, а была лишь одна картошка с подсобного участка. Именинник счастливо уплетал эту вкусную картошку, а его мама еле одерживала слезы, что не было подарка ребёнку, даже конфетки. Впрочем, детей в садах кормили неплохо.

Таня в годы войны, 1944 год В общем, если бы не тревога за мужа, жизнь в эти годы при всей своей физической трудности не была бы тяжелой. Тем более что пошли наступления, выход войск за рубеж, ежедневные победные салюты и нетерпеливо-радостное ожидание победного конца.
Но мешали трения в большой родительской семье, которыми были отмечены эти военные годы и о которых я должен рассказать, как нынче их понимаю.
Все упиралось в Вашего прадеда. Хотя он и оказался в почетном звании пролетария, привилегированного класса, и мог бы спокойно наслаждаться достигнутым уровнем жизни, деля время между заводом, игрой в домино и выпивкой, но, расставшись с землей, он не изменил ни своих крестьянских привычек, ни своим юношеским целям. Придя с работы, он или отправлялся на подсобный участок к картошке или укладывался на койку и оставался на ней до следующей смены. И только. Домашняя работа и жизнь детей его деревенской традиции не колебали и не касались. Он был выше этого. Заветной целью стало - купить "дачу» - какой-нибудь деревенский дом в Подмосковье с приусадебным участком и "осесть на землю". Конечно, своим решением перебраться в Москву Митрофан определил московское будущее всех своих детей и многих родственников, но сам он стремился к иному, к "земле".
Однако для покупки "дачи" нужны немалые деньги, которые простому рабочему с двумя малыми детьми найти тогда было чрезвычайно мудрено. Митрофан и не пытался мудрить. Он поступал, подчиняясь извечному крестьянскому инстинкту - копил. Ввел жесточайший режим экономии. Не только для себя, но и для семьи. Только черный хлеб, только старая залатанная одежда, никаких развлечений и "излишних" удобств. Жили они в 9-метровой комнате стандартного барачного дома. Когда во время войны соседняя комната в 13 кв.м стала свободна, и никто ее не занимал, завком настоятельно предлагал Митрофану Степановичу занять комнату, но тот отказался - чтобы не увеличивать семейные расходы на жилье! Так и жили вчетвером (а после нашего с мамой приезда – вшестером) в узкой девятиметровке. Три кровати, сундук и пол.
Когда наступали летние каникулы, Митрофан старался определить младшую дочь в няньки, хотя бы за еду и грошовую плату. Для сына мужской работы еще не было в городе, и подросток работал на заводе.
Вместе с тем Митрофан был достаточно осторожен: записался в разные общества с их членскими взносами, ходил на праздничные демонстрации, беспрекословно подписывался на займы и добровольные пожертвования на оборону во время войны. Из ряда незаметных рабочих не выделялся и своим скопидомством отнюдь не бахвалился.
Его поведение сегодня может показаться странным и смешным, но для прадеда мечта о даче, о кусочке земли при ней, была, наверное, смыслом жизни. Для осуществления мечты он вел борьбу с собственной жалостью, добротой, леностью, неверием. Этим самым он вел титаническую борьбу за жизненное призвание, за сложившуюся душу. Можно смеяться над размерами прадедовой цели, но трудно отказать ему в уважении за непреклонное упорство, внутреннюю независимость и противостояние колоссальному внешнему давлению.
Вся сила могучего государства и пропаганды вопила и взывала: «Откажись от земли и независимости, откажись от мечты! Стань платным слугой и наемным пролетарием, стань добровольно, не думай об иной доле. Доказывало по-разному, но очень действенно: кнутом конфискаций, ссылок и лагерей и пряником бесплатных путевок, нормированного рабочего дня, большого пайка, дешевых квартир
Но ничто не могло сломить прадедовой души, его устремлений. Правда, они стали совсем скромными: земля, хозяйство, крепкий дом урезались в «дачку». Потому что в рамках существовавших тогда установлений только такая мечта была дозволена и не грозила репрессиями, т.е. была осуществима.
Главным препятствием было лишь отсутствие денег, а на пути к их сбережению - просьбы и слезы жены и младших детей, которым уже не нужна была земля и "дачка", нужны были еда, одежда получше, книжки, кино, мороженое, т.е. потребление ради него самого. И вот семья начала противиться режиму экономии. Пошла настоящая борьба за утаивание части денег от "отцовского скопидомства", от всевидящего догляда. Шла она очень долго, развращающе долго, приучая одну сторону к изворотливости и обману, а другую - к подозрительности и мелочности.
И в этой атмосфере враждебных интересов мы с мамой оказались чужеродным включением, почти бельмом на глазу, вызывая неудовольствие обеих сторон. Конечно, ваш прадед не думал устанавливать власть на деньги взрослой дочери и ее мужа (уж он-то уважал чужую собственность), но то, как "широко" тратила дочь эти деньги на ребенка и себя, нарушало сложившийся в семье режим жесточайшей экономии, еще больше возбуждало дух протеста у жены и младших детей. Все попытки Митрофана склонить дочь к самостоятельному накопительству (это в те-то годы!) ни к чему не привели. Татьяна уже оторвалась от крестьянской почвы и не понимала смысла ни в земле, ни в деньгах на "черный день".
А от матери и младших брата-сестры Таня неожиданно для себя вдруг встретила ожидание полного денежного слияния с ними.
Согласно простой "семейной логике": раз живем вместе, то и деньги, откуда бы они ни взялись, давайте делить по-братски, поровну, по справедливости. Сегодня такое предположение и требование могут показаться нелепыми, но мы просто ничего не понимаем ни в тогдашних условиях жизни, ни в тогдашних жизненных представлениях. И действительно, жить в одной комнате с братом и сестрой, почти в голоде и нищете - и на разных деньгах и уровнях - хорошо ли это? справедливо ли? Видеть, как старшая сестра лучше их одевается, хотя и не гуляет с молодежью, тратит драгоценные деньги зря на ребятенка (например, новые галоши, хотя старые еще не развалились) и сознавать, что они сами все свое детство ходили в обносках, хуже всех своих друзей и подруг, и сейчас, в наступившей юности, это продолжается - каково? Отсюда происходил этот оскорбительный для Тани мотив: "Ты уже замужем, уже старая, скоро тридцать лет будет, наряжаться совсем ни к чему, а у нас - еще все впереди, нам одежда больше нужна..."
Мать держала в таких пререканиях сторону своих младших и потому главных детей. И это сильно обижало Таню, гораздо больше, чем неудовольствие отца. Его она могла понять, хоть и не одобряла. Да он и не посягал на ее самостоятельность и равно относился ко всем. Мать же не могла проявить равной любви и привязанности ко всем детям, не могла понять необходимости защищать среднюю дочь от "справедливости" младших. Еще важнее, что она не могла понять и принять устремлений своего мужа. Прабабушка Поля выросла в относительно богатой семье, поэтому честолюбивые мечты о своей земле, об укреплении своего хозяйства ей чужды, посторонние, оставляли равнодушной. Она лишь пассивно подчинялась воле мужа и традиции. Сытое и не ущемленное мечтой о богатстве детство приучило ее к потребительскому (пролетарскому) стилю жизни, привило стремление брать от жизни все, что можно, сейчас и не строить далеких планов. Такой "легкий" склад Полиного характера вдруг оказался весьма соответственным послереволюционной эпохе, стилю жизни воспитанных при советской власти младших детей. Прадед же оказался антагонистом не только времени, но и жене. Потому и произошел столь глубокий раскол в семье Глобенок...
Меньше 15 лет прошло с тех пор, как Таня покинула деревню - и как все изменилось. Какими чужими оказались родные! Самым близким и понятным из них проявился прежде далекий и отчужденный отец. Приехав к матери и отцу, она не почувствовала ни на миг возвращения домой, в детство. И лишь поездки вместе с отцом на посадку и копку картошки под Можайск или иные места, отведенные заводу "Красная труба", неожиданно поднимали у нее прилив воспоминаний, ощущение возвращенного детства, зеленого поля, росяного утра, тяжелой земли на лопате, уверенности от сильного отца рядом, радость от прекрасной жизни. Я это знаю, потому что именно эти поездки она вспомнила в последний год жизни, ими жила последние месяцы и дни. Может, в эти поездки вместе с отцом она в последний раз бывала маленькой девочкой или "гарной дивчиной" - и по чувствам, и по здоровью и по внешнему виду.

Хотя бы вот такой, как на фотографии 1945 года со мной на загородной "даче" заводского детсада. Кстати расскажу: приехав навестить меня, мама охнула от моего исхудавшего вида и немедленно забрала домой, несмотря на категорические возражения детсадовского начальства. Надо признать, что это начальство, действительно, обнаглело, воруя у детей продовольствие самыми разными, скрытыми и даже открытыми способами. Одно из моих голодных впечатлений того "райского житья»: мы, дети, собираем в лесу грибы, нас хвалят и говорят, что сжарят добычу и подают на обед. Восторженное ожидание чудесного обеда завершилось горьким разочарованием. На тарелках каждого малыша оказалось по мизерной грибной кучке, зато огромное блюдо (как сейчас помню - не охватить), заваленное жареными грибами до неба, улыбающаяся повариха торжественно подносит улыбающейся воспитательнице или заведующей... А обман шоколадом? - Было объявлено, что от шоколада болят зубы, поэтому детям советовали возвращать свои дольки обратно. Поскольку я уже тогда всерьез мучился зубами, то возвращал все дольки до единой. И лишь мама меня потом просветила.
Прошли многие годы после войны, но отчужденность от родных не изгладилась до конца. По-деревенски большой семьи уже не было: все сестры и брат жили отдельными семьями, и лишь на праздники, на Пасху особенно, собирались у родителей. И, тем не менее, настороженное отстаивание своего положения у матери и обидчивость-не изживались. И особенно у моей мамы. И не в ее силах было бороться с собственными навязчивыми представлениями. Может, в годы войны ее настороженность и была нужна, но позднее она просто губила ее саму. Губила, переносясь на соседей, на мир, даже на мужа и сына.
В Германии. 1946 - 1948 годы.
Весной 1946 г. из Германии приехал отец и забрал нас обоих с собой. Кончилась война, и мы, наконец-то, были вместе. Но не в Харькове, а по месту расположения отцовской воинской части - в Германии.
Сохранилось одно фото бабушки Тани того периода. Группа офицерских жен авиационной части на фоне портрета "Отца Родного". Наверное, снялись после политзанятий. В общем ряду сидит и моя мама. Снова повторилась довоенная история: сытая жизнь с мужем в кратчайший срок и уже окончательно располнила ее и превратила в знакомую вам "бабушку Таню". Даже многочисленные переезды и хлопоты (за 2 года - четыре переезда) не помешали процессу сытого старения. Переезды не могли заглушить главного нашего ощущения этих двух лет - удовлетворенности (может, радости) от свалившегося несказанного богатства и роскоши. Как сейчас помню: после тесного и шумного польского поезда (чемоданы и узлы) отец вводит нас ночью в огромную квартиру с множеством комнат, уставленных диванами, зеркалами, старинными часами, роялем (а для меня припасено маленькое ружье и сабля). И нам предстояло здесь жить. Ощущение сказки. Недаром люблю увиденный именно там наш фильм "Золушка".
Все понятно: брошенные немецкие квартиры занимались семьями советских офицеров, а брошенная мебель и вещи считались естественными трофеями. Сбежавших хозяев обратно не пускали, оставшихся немцев вскорости выселили, или, как выражаются теперь - переместили на Запад, объявив эти восточно-немецкие земли новой польской территорией.

Германия=Польша, г.Заган. Жены офицеров, 1947г. Вторая слева в нижнем ряду - Т.Д.Глобенко
Приехав в побежденную Германию, мы скоро очутились в союзнической Польше, что со временем отразилось и на положении советских военнослужащих: они должны были постепенно перебираться из городов в специальные военные городки, а в обращении с местными усваивать более вежливый, менее барский той. Если в первые месяцы к нам приходили тихие немки и униженно выпрашивали стирку или иную работу за хлеб, а непривычная к этому моя мама не могла устоять против просьб немецких девочек (она просто давала хлеб), то в последнее время мы жили уже в сплошь русском военном поселке казарменного типа, квартира состояла всего из трех комнат (но мы помнили, что в Москве четверо живут на 9-ти метрах), а услужливых немцев уже выселили. После редких поездок в городские магазины женщины обычно возмущались вредными и высокомерными "панами" - польскими торговцами.
Однако первое впечатление господской жизни - и по богатой обстановке и по отношению окружающих (немки, стирающие белье) - было колоссальным.
Шел 47-й голодный в России год. Но здесь, в побежденной Германии и Польше, хлеба и продуктов было довольно. Многие, и мы тоже, отсылали домой продуктовые посылки. Но разве на всех - отошлешь? Голод в Москве подчеркивал здешнее благополучие.
Не знаю, насколько естественно восприняла бабушка Таня свое превращение из раскулаченной крестьянской дочери через советскую медсестру и жену офицера - в западноевропейскую барыню (фрау), у которой "немцы были на посылках". Наверное, как награду судьбы за разбитый и исчезнувший в Харькове дом, за все страхи и переживания в военные и предвоенные годы. А скорее просто как жизненную удачу.
Конечно, по-настоящему освоиться с ролью госпожи она не успела - уж слишком короток был срок. Но, наверное, именно с этого времени у нее начало появляться иногда новое выражение лица - спокойное, горделивое, советско-господское, чуть ли не торжественно-официальное. К счастью, для меня - только на людях и очень редко. Но вот осталось на некоторых фотографиях, и сейчас я думаю: может, это выражение было не только маской для внешнего употребления, может, она соответствовала и развивающейся сути?
Отодвинулась в сознании тема "черных воронов", материально "жить стало легче и веселее", а вот в маминых словах появилась (и надолго осталась) благодарность Сталину за "выигранную войну». Слова Молотова "Не было б у нас Сталина, не было б и победы" казались ей очень правильными. Один раз в компании за столом она даже несмело предложила выпить за Сталина-победу. Наступила неловкая тишина, которую снял один офицер: "Мы собрались здесь запросто, дружески, а в неофициальной обстановке такие тосты неуместны». Слова эти были очень рискованными, но, кажется, прошли для говорившего без последствий, а для мамы оказались хорошим, на всю жизнь уроком. Незабываемым чувством стыда. Я это хорошо знаю.
Чем была занята мамина заграничная жизнь? Офицерские жены обычно не работают. Не работала и Таня. Конечно, была «общественная деятельность офицерских жен", были политзанятия, были курсы кройки и шитья. Но глазное - начало школьных занятий сына, устройство дома и кормежка мужа. Откормить исхудавшего и вымотавшегося за войну Володю постепенно стало ее основной жизненной целью. О других детях она почему-то больше не думает. Не знаю - почему. До сих пор не понимаю. Не из-за тяжести родов - я бы помнил тогда отклики родительских обсуждений. А просто им тогда хватало одного ребенка. Правда, пройдет несколько лет, и уже в Москве, она будет горько жалеть о своей нерешительности, но поздно.
Конечно, Таня не была крестьянкой, но во многом унаследовала крестьянский характер своего отца. Как и он, она, видимо, не могла жить без собственной цели. При достигнутом материальном достатке и здоровом, благополучном ребенке целью стало благо и здоровье ее дорогого мужа. Во что бы то ни стало! Даже вопреки его собственной воле и, следовательно, в подрыв семейного согласия.
Есть мудрое правило: надежны невзгоды и поражения, в довольстве и покое таятся будущие несчастья. Принятая в богатые послевоенные годы Таней цель преследовалась ею в течение всей оставшейся жизни - но без ощутимого успеха, и потому привела ее к раннему неврозу, потом к гипертонии и к гибельному обострению нефрита. Начавшаяся благодаря тогдашним ее стараниям хорошая учеба сына привела его через годы к "опасным вопросам", что обострило материнскую болезнь, заставило казниться за "неосторожное воспитание сына" ("лучше бы тебе стать рабочим").
Даже физиологически ей было вредно довольство. Хорошее питание сделало её толстой, почти с неизбежностью подготовило гипертонию. Иногда мне кажется, что сохранись тяжелые условия войны, полуголодная жизнь с естественными заботами о хлебе насущном, но без душевных терзаний о судьбе мужа и родных, моя мама еще долго была бы вот такой худой и сильной, прожила бы много дольше, чем ей удалось. Но легко гадать, так было бы или иначе. Труднее самому правильно действовать, даже если знаешь пользу несчастий или недоедания. Вот, например, мы с вашей мамой Лилей знаем бабушкин опыт, а все равно тянемся к более богатой жизни, бОльшим деньгам и обильной пище, хотя именно из-за них и умрем раньше срока. Есть логика давно усвоенных жизненных привычек и очень трудно, может, невозможно ее ломать. Уже привыкли так жить и не можем иначе.
Рождение невроза. Мазилово. 1948-1955годы годы.
Весной 1948 г. ваш дед в чине капитана демобилизовался и с семьей и многочисленным трофейным скарбом (по три офицерских семьи на товарный вагон) приехал в Москву, бросив нажитую военную специальность, променяв завоеванное благополучное положение на состояние временного безработного. Трудно понять, почему он это сделал. Конечно, из-за отсутствия высшего образования ему был закрыт рост в "высшие офицеры". Конечно, он соскучился по нормальной жизни в России, Но, наверное, были еще причины, из-за которых он так быстро и так решительно, против воли жены (она хотела, чтобы он дослужил оставшиеся немногие годы до военной пенсии) демобилизовался и оказался в Москве. Он никогда и никому не раскрывал этих крутых причин, но, кажется, они - в том равнодушии, с которым командование части отнеслось к перспективе ухода одного из лучших авиационных механиков. Ваш дед привык работать в два-три раза больше положенного, не требуя соответствующих вознаграждений, а лишь искреннего уважения, чувства собственной необходимости, ибо служба в армии была его собственным «полем». Все было хорошо, когда интересы начальства совпадали с интересами службы. В иные же времена все расстраивалось. В годы послевоенного сокращения воинских частей люди совсем без охоты шли под демобилизацию в голодную Россию, и, конечно, в такой обстановке интересы собственные и своих личных друзей для командования значили много больше, чем интересы "качественного обслуживания" самолетов. Словом, "умри ты сегодня, а я - завтра". Для вашего же деда обида могла тогда звучать так: "Мавр сделал свое дело и не нужен"
Но, повторяю, все это - лишь мои домыслы, ибо в семье было признано: "Отец сам, по доброй и непонятной воле демобилизовался".
Поселились мы у прадеда, но не в его девятиметровке, а в купленной к тому времени "даче"... Сейчас уже нет практически той подмосковной деревни Мазилово, в которой стоял этот дом, и где прошло мое сознательное детство. Между станциями метро "Филевский парк" и "Пионерская", ближе к железной дороге, сейчас укоренились кварталы блочных домов. А раньше - тянулись три деревенские улицы, окруженные полями ржи, картошки или капусты. Поля перерезали два противотанковых рва, вырытые женщинами в годы войны и засыпанные лишь в начале 60-х годов. А ближе к лесу, который сегодня вдруг преобразился в маленький Филевский парк, по нынешней трассе метро текла речка Филька – прозрачная, веселая, с пескарями на песчаном дне в солнечных бликах, в высоких зеленых берегах (сейчас напрочь и безжалостно срезанных и засыпанных). Когда же мы, мальчишки влезали на насыпь белорусской железной дороги, то за ней вдалеке виднелся синий лес, который казался нам за далью-даль. В таинственном лесу - все говорили это вполголоса - стоит дача Калинина или Ворошилова (на самом деле - кунцевская дача Сталина).
Сейчас ничто не напоминает здесь деревни, а раньше ничто не напоминало города. Сама же старинная деревня, получившая свое название от живших здесь "мазил" (по старинному обычаю, здесь смазывались колесные оси, готовя в путь обозы из Москвы на запад), имела обычный колхоз и полагавшиеся к нему магазин, правление и клуб-кино.
Историю покупки "дачи" ваш прадед рассказывал как мистическую: будто бы он явственно услышал голос: "Ты ищешь? - Иди", и он пошел... "Голос свыше" довел его до Мазилова, до полуразвалившегося большого дома, одна половина которого была брошена и закрыта, а в другой тесно жили хозяйка и ее дети. Муж у нее погиб, и занимать-топить весь дом она была не в состоянии. За 20 тысяч тогдашних денег он приобрел половину дома и 6 соток земли рядом с ним. Кстати, только что прошла денежная реформа 1947 года, сильно обесценившая все прадедовы накопления. Наученный этим горьким опытом, он, по известному правилу, теперь "дул на воду"и спешил-спешил "осесть на землю", не жалея полегчавших денег, решая судьбу свою бесповоротно. Наконец-то, у него снова появилась своя, пусть крохотная по размеру, но своя земля. Однако не успел он на ней обосноваться и что-то сделать - приехали мы и поселились, конечно, временно.
Так, временно, мы прожили здесь около 6 лет. Почти заново отстроили свою половину дома - с верандами, печью, фундаментом, хозяйственными пристройками - курятником, свинарником, дровяным сараем. В это обзаведение родители ухнули почти все привезенные с Германии деньги, все время и силы. Прадед же, в начале активно участвовавший в перестройке, потом отошел в сторону, предоставив зятю право на инициативу и решения. Как будто, он приобрел землю, но тут же ее потерял. Почему же он так поступил? - Наверное, входил в положение дочери и зятя (деваться же им было некуда) и терпеливо ждал, когда им дадут московскую прописку и заводскую квартиру. А пока зять и сам неплохо обустраивает его "будущий дом" и землю. Так оно, собственно, и вышло.В 1954-м году родителям дали-таки от завода две маленькие комнатки в том же самом доме, где жили старые Глобенки, и прадед с женой, старшей дочерью и внучкой перебрался на свою дачу. Наконец-то!
Казалось бы, старый "спор" прадеда с властями закончен. Власть, конечно, и думать не думала о каком-то споре с каким-то пролетарием из раскулаченных. Но для прадеда все иначе. Он снова жил не в казенном, а в своем доме. И утром мог выйти на свою землю. При пенсии, при "выведенных в люди" детях, при уважении от соседей.
Так бы ему дожить до смерти - и это было бы справедливой, хоть и малой наградой за все пережитое. Но... судьба была к нему безжалостной - Кунцево-Мазилово включили в черту города, слухи о перестройки деревни становились все упорнее, а с конца 50-х годов стали явью. Застройка массива "Фили-Мазилово" все ближе и ближе подвигалась к их дому, надрывая душу безнадежностью. Кажется, в 60-м году дом и сад снесли, заплатив какую-то ерунду, и всех четверых переселили в однокомнатную квартиру нового блочного дома. Снова в одну комнату этого человеческого муравейника.
Внешне Ваш прадед спокойно перенес эту последнюю катастрофу. Но только внешне. Вскорости его разбил паралич, потом он оправился, но почти не выходил из комнаты, и летом 1964 года умер.
Годы, проведенные нами в Мазилово, вспоминаются уже мною, как годы счастливого детства: стройка дома - в стружке и земле, игры с мальчишками и походы в лес и на Москва-реку, запруды на Фильке, сладость вишен и кислота яблок.
У родителей же был хлопот полон рот: отец после долгих мытарств устроился на якобы временной работе кладовщика на складе Трубного завода, да так и остался там до сегодняшнего дня. Мама же вернулась в медкабинет того же завода, правда не сразу, некоторое время работала на заводе "Москва-толь", от которого у меня остались в памяти списанные и запрещенные, изъятые из библиотек и отправленные на переработку в толь книги. Эти книги иногда и тайком приносила мне мама. До сих пор помню ее и свое недоумение, зачем нужно было уничтожать совсем новенькие книжки чудесных детских стихов Л.Квитко: "Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят, мы их не обидим, поглядим и выйдем..".
Ходить на работу приходилось пешком, далеко и долго, особенно в осеннюю и весеннюю грязь. А заботы с домом, курами, поросенком отнимали много сил. Нет, Таня не стала вновь худой и красивой, ибо голода больше не испытывала. Болезни у нее в это период не проявлялись. У нее хватало силы даже таскать на себе мешки с картошкой или отрубями для поросенка - быстро и радикально европейская "фрау" снова стала русской работницей. А когда я был в 5-м классе, она пыталась еще бегать со мной наперегонки ("Боже мой, как отяжелела, а ведь в детстве не могла нормально ходить, только бегала!")
Жизнь текла нормально, и только худоба мужа ей докучала. А он не мог жить иной, не напряженной жизнью: в деле, таком прозаическом и почти презираемом, как складирование и отгрузка труб потребителям, он проявил всю ту же добросовестность и старание, с которыми начинал раньше портняжить, потом комсомолил или ремонтировал изрешеченные немецкими пулями самолеты. Может, на фронте часто бывало труднее, зато было понятнее, откуда трудности взялись и почему нужно бросаться на их преодоление. Здесь же, в мирных условиях, понять и оправдать причины заводских "трудностей" и "порядка" он не мог и все силы ухайдакивал в их преодоление. С помощниками или без них, одному ли - все равно. Всю жизнь привыкнув рассчитывать только на собственные силы, он и здесь оставался верным себе, не обращая внимание на кличку "чудак" (или даже грубее), приставшую с первых же месяцев работы.
Дедушка Володя и сейчас, спустя почти тридцать лет приходит на работу за час до начала и уходит позже. В первые же годы он возвращался домой не раньше 9-10 часов вечера, а иногда - лишь на следующие сутки (как на фронте). В цеху же не гнушался никакой работой: бывший офицер, нынешний мастер, он работал и на кране, и чальщиком, и кем угодно. Только бы не останавливалась погрузка...
Ну, как могла относиться к этому любящая жена? - Любая ругала бы его и пилила, что не бережет себя, не имеет гордости, не может заставить подчиненных и т.д. и т.п. Не была исключением и Таня - но без толку! Покладистый и исполнительный, когда речь шла о здоровье жены или интересах семьи и родственников, Володя был непреклонен, или проще, упрям, когда уговоры касались его лично. Изменить себя и переделать он не мог. И наверное, был прав в этом. Небезопасно переделывать себя в зрелом возрасте (за сорок). Тяжелая же, на износ, работа и отчаянная худоба вовсе не подорвали его здоровья. Он работоспособен даже сейчас, через тридцать лет. А Таня была убеждена тогда: "При такой жизни Володя проживет 3-5 лет, не больше 10-ти" и прикладывала максимум усилий, чтобы избежать своего страшного предсказания: вкусной едой (куры и поросята заводились в немалой степени именно из-за этого), попытками упорядочить режим и работу, наконец, долголетними и безуспешными попытками отучить от курения с расчетом: «Бросит курить - потолстеет - проживет дольше".
Но даже в последнем, кажется, наиболее простом средстве, Таня потерпела поражение. Если вначале Володя делал серьезные попытки избавиться от вредной привычки, то после нескольких неудач, поняв, что на нервной работе не может удержаться без курева, перестал и пробовать. Ожесточившись от непрекращающихся уговоров и упреков жены, перестал и слушать ее на эту тему. Только молчал. Впервые и неожиданно для себя Таня наткнулась в своей семейной жизни на неодолимую стену, много лет пыталась ее преодолеть, но в результате разбилась сама.
Последняя и отчаянная попытка ее относится уже к периоду нашей жизни в заводском стандартном доме, сразу же после переезда. Прекратились хлопоты мазиловского дома и двора, и мамины силы еще больше сконцентрировались на муже. С другой стороны - места для курения в наших комнатках было меньше, чем в Мазилово. Короче говоря, проблема обострилась.
Было перепробовано множество рецептов, помогающих бросить курить - множество средств и таблеток. Наконец, дошли до последнего - до записи на прием к модному врачу-специалисту, отучавшему людей от курения гипнозом и еще чем-то. С огромным трудом, после долгих просьб и ожидания, Тане удалось записать мужа на прием и лечение. Наконец, она, торжествуя, сообщила, что назначен день и час приема. Осталось только пойти и... вылечиться. И вот тут происходит тот самый бунт: Володя категорически отказывается идти на прием. Навсегда!
Сначала Таня просто не верила, не могла поверить: «Да, он давно уже потерял веру в силу своей воли, давно махнул на все рукой, на ее уговоры и надежды, но тут-то как раз успех гарантирован, гипноз действует помимо воли и выдержки. Да и как можно не пойти, когда затрачено столько сил, труда, чтобы добиться приема? Столько нервов и лет жизни ушло в этой изнурительной борьбе за его же здоровье! Разве он может отказываться именно сейчас, на пороге успеха? Ведь обещал, всегда обещал бросить курить, еще до женитьбы обещал..."
Нет, худшей измены она не могла себе и представить. Все дни до дня приема плакала и уговаривала. Но он, не веря в очередной женин рецепт (сколько уже было их перепробовано), решает на этот раз выдержать характер до конца, чтобы больше его не воспитывали, и конечно же, выдерживает. Она с отчаянием наблюдает, как истекает срок явки на назначенный прием у специалиста-кудесника. Истекает неотвратимо. Надеется на чудо: что муж в последние минуты опомнится, придет с работы, и они поедут, пусть даже немного опоздают и ей придется извиняться. Ради бога, сколько угодно раз! Как она умоляет его свершить это чудо!
Но чудо не происходит. Муж приходит, как всегда, поздно. Делает вид, что ничего не произошло. О чем же может быть теперь у них речь, когда он изменил тому самому первому, еще в Харькове до замужества молчаливому обещанию: угадывать и исполнять все ее желания? Как с коробкой шелка... А сейчас он не то что угадал и исполнил, а просто растоптал ее самое главное, самое заветное желание. О чем же теперь разговаривать?
Но будем справедливы. Он совсем не изменял своим главным обязательствам. Он просто стал со временем опытнее и понял, что невозможно выполнять все желания жены, что многие из этих желаний относятся к нему самому и если их все и беспрекословно выполнять, то от самого себя ничего не останется. Ей же от этого будет потом хуже.
Конечно, ваш дед зря так резко повернул в те дни - от беспрекословного подчинения к каменному отказу. Такие крутые повороты не могут не действовать разрушительно на женскую психику. Он просто не догадался, как было важно для Тани сделать эту последнюю попытку. Наверное, она тоже была бы неудачной, и курить бы он не бросил. Но зато не было бы такого резкого разлома сложившихся семейных отношений, Таня не потеряла бы в тот момент веру в него как близкого человека, того самого - с подарочным шелком в руках.
Однако ошибки становятся нам ясными лишь много позже...
А тогда Таня собралась немножко и ушла из дома. Недалеко ушла - к отцу и матери в Мазилово. Ушла серьезно. Надолго, может, навсегда... Я смутно помню эти странно пустые дни, когда мы с отцом выжидали ее возвращения. Мы были совершенно в нем уверены и не ошиблись. Действительно, куда ей деться? При своем доме, при подростке-сыне, при негулящем и некормленом муже - разве можно уходить только из-за мужниного курения? Смешно - никто не поймет... Разве объяснишь кому про "человека с шелком"? Да и сердце за ними, брошенными, болит. Чем дальше, тем больше.
И мама вернулась к нам. Только не вернулось к ней здоровье, ее психическая цельность, ненадломленность. Мир в душе был сломан и лишь наскоро непрочно склеен. Бессонница, раздражительность, подозрительность теперь никогда с нею не расставались. Довольно скоро ей оформили 2-ю группу инвалидности с записью в книжке: "общая нервная болезнь" (или что-то в этом роде).
Может быть, я преувеличиваю связь нервной болезни с описанной историей, но какая-то связь все же была. Внешне мама стала тише и спокойнее даже, меньше входила в отцовские дела и интересы по работе, не делала новых решительных попыток ликвидировать его курение и поправить худобу. Сын пока рос нормально, хорошо кончил школу и, выполняя желание родителей, поступил в хороший институт учиться дальше. Жизнь катилась по заведенному порядку, без особых всплесков и треволнений, без событий, заметных для меня, занятого собственными проблемами.
Только теперь мне ясно, что именно этой "тихости", смене равнодушием прежнего деятельного напора надо было не радоваться, а ужасаться. Ибо они признаки неизлечимого упадка, потери жизненной цели, начала смерти. Ибо человек не может жить без цели.
Как многие женщины, бабушка Таня росла, училась, чтобы работать, работала, мечтая найти друга и создать семью, поддерживала семью, чтобы сберечь и охранить мужа и вырастить сына. Теперь муж сделал безнадежными и бессмысленными ее старания, а сын вырос, перестал нуждаться в опеке, естественным ходом вещей отдалился и стал просто холоден.
Гибель жизненной цели можно еще пережить в молодости, когда здоровое тело пересиливает духовную немощь и вынуждает к поиску и нахождению новой цели, ради которой следует продолжать жить. В старости этого обычно не происходит, не получается. Мудрая природа, неукоснительно заботящаяся о том, чтобы старое умирало, освобождая место под солнцем новому, молодому, обычно благосклонно смотрит на стариков, не меняющих ритма своей жизни, неуклонно преследующих поставленную когда-то жизненную цель, в чем бы она ни состояла: в научных исследованиях, в садоводстве или воспитании внуков. Заведенный режим работы, выполняемый с охотой и воодушевлением, отгоняет болезни и сохраняет жизнь насколько это возможно для биологического организма. Потеря же цели, а вместе с нею и стимула к работе, уступки усталости, стремление к "отдыху" и бездеятельности ведут к самоликвидации человека, к самоисчерпанию. И никакими средствами нельзя внести извне в угасающую жизнь новую цель. Ухудшающееся здоровье препятствует целеустремленной работе, а здоровье ухудшается от отсутствия цели и нормальной жизни. Такая порочная спираль - удел наших пенсионеров - закручивает старых без спешки, но до конца.
Кажется, немногое отняли у бабушки Тани - лишь надежду существенно улучшить здоровье мужа, отучить его от вредной курительной привычки, все же остальное - при ней по-старому. Но оказывается, все оставшееся потеряло смысл, цену, как будто соль вынули из приготовленной уже пищи. Ей всего 40 лет, самый расцвет, середина жизни, однако, это уже надломленная, грустная жизнь, как будто до инерции, по обязанности, а не по любви.
Лишь гораздо позже той ссоры, начали проявляться эти следствия распада - не только в здоровье, но и в поведении. На работе она отказывается от должности старшей медсестры - начальника заводского здравпункта, и вместе с тем - от всяких перспектив по службе, от медицинской учебы, совершенствований. Как рефреном к этому спаду служат периодические повестки из военкомата, вызывающую военнообязанную Глобенко Т.Д. на переаттестацию, причем, раз от раза ее воинское звание снижается: от лейтенанта к сержанту или ефрейтору, рядовому и, наконец, списывают в отставку.
Дома тоже наступают перемены, ощущаемые мужем и сыном, как облегчение, но на деле - зловещие: уже нет у мамы той погони за чистотой, что была раньше, нет обязательных ранних подъемов по утрам, чтобы успеть нас сытно и вкусно накормить и за одеждой проследить, теряется интерес даже к самой готовке, которая было, может, главным ее пристрастием. Даже интерес к красивой женской одежде, к красивому материалу, становится каким-то академическим.
Рождение гипертонии. Фили.1955 - 1965 годы.
Болезнь угасания началась, но, слава богу, в последующие годы были и радостные перемены, как переезд в новый кирпичный дом на Багратионовской, поездки на море и в деревню, но были и крупные неприятности, связанные на этот раз со мной.
В 1961 году меня исключили из комсомола и едва не выгнали с последнего (дипломного) курса института. От матери скрыть это было невозможно.
Когда, после грозы, она пыталась сама с собой выяснить корни несчастья, то перечисляла и свои "дурацкие разговоры о колхозах", и мое излишнее увлечение книгами, и как она его поощряла, и дружбу со странными, опальными учителями в школе, и чрезмерную самостоятельность...
Первые признаки моего грехопадения проявились еще в 1955г., когда я отдал уважаемому историку и директору школы на консультацию свои недоумения в письменном виде после чтения "Краткого курса истории ВКП (б)". Ответов на свои вопросы я не получил, зато с заводского парткома затребовали данные об отце на предмет выяснения причин уклонений сына. Случись такой казус год назад, судьба моя и всей семьи изменилась бы быстро, решительно и бесповоротно (сколько таких юнцов арестовывали главным образом за разговоры в своих компаниях).
На мое счастье уже готовился XX съезд, и коренные перемены готовились не в моей судьбе, а в судьбе всей страны. От меня же доброжелательные учителя потребовали только сжечь все "неправильные бумаги". По настоянию родителей я, как обещал, сжег наиболее сомнительные из них на газовой плите.
Последующие, уже институтские годы, когда страна, а вместе с ней и мои родители воспринимали с удивлением, облегчением и осторожным недоверием все разоблачения культа личности и ослабления системы страха, для части молодежи было временем внутреннего освобожденного развития. Процесс личного освобождения для каждого должен был неминуемо натолкнуться на внешние ограничения и противодействия, т.е. привести к столкновению человека с системой официальщины. Для разных людей этот кризисный момент наступал по-разному и в разное время. Для некоторых - сразу после XX съезда и венгерских событий (кстати, отмечу, что тогда я был искренне рад вводу в Будапешт советских войск), для других - в 1968 году, для большинства этот момент еще не наступил. Для меня же «час Икс" настал в 1961 году, перед ХХП съездом партии (кстати, почти в то же самое время этот «час» наступил и для генерала Григоренко П.Г.).
Не буду здесь подробно рассказывать о тех, наверное, самых важных в моей жизни неделях. Только скажу, что главное мое преступление заключалось в документе "Критика проекта программы КПСС", направленном в ЦК, и "провокационном" выступлении на факультетской комсомольской конференции. Я был исключен из комсомола с шумом и гамом за "неубежденность в марксизме-ленинизме, клевету на советскую деятельность (назвал выборы в Верховный Совет - ширмой партийного руководства) и неправильное понимание товарищества (не назвал имени комсомольца, с которым доверительно беседовал на острые темы)". Мое исключение из института было делом предрешенным, и лишь личное расположение ректора и мое последующее "покаяние" по некоторым пунктам позволили мне все же получить диплом в 1962г. Если для меня самого все произошедшее казалось неожиданной лавиной, землетрясением, то важно представить себе состояние родителей, особенно мамы, когда все узналось. По ее поздним словам, она "словно окаменела"
Когда пришлось все открыть, я ожидал моря упреков и слез. Но ошибся. Мама была тиха и спокойна. Меня это приводило в замешательство. Конечно, в 1961 году мне уже не грозила тюрьма, но исключение из института и испорченная навсегда трудовая биография казались обеспеченными. Стычки и обиды у меня с мамой раньше бывали по гораздо более мелким поводам.
Все же и тогда я понимал, что "тихие" мамины переживания не могут не сказаться отрицательно на ее здоровье, на нервах. И острое чувство вины еще больше тяжелило мое подавленное состояние.
В конечном счете, все обошлось, я получил диплом и уехал по распределению в подмосковный город Коломну. А через полгода был даже принят в комсомол. Заново. Тем самым исключение из ВЛКСМ стало из анкетного факта неким необязательным к упоминанию частным фактом биографии (так мне казалось).
Начались иные, более радостные и важные события. В Коломне возникла наша с мамой Лилей семья, родился и рос Артемка. Но все же в Коломне мы не чувствовали своего дома и почти каждое воскресенье уезжали в Москву, к родителям: отдыхать, отъедаться и встречаться с друзьями. Я еще больше отдалился от родителей и лишь краем уха слышал мамины жалобы и тревоги. К ставшим уже привычными сетованиям на почки, бессонницу прибавилось новое слово - гипертония - повышенное кровяное давление. Распространенное и неприятное слово. Новая болезнь развивалась постепенно. Год от года давление крови у нее все увеличивалось, самочувствие становилось все хуже, а периоды поправки все реже. И хотя сильными дозами лекарств или летним отдыхом удавалось снизить давление, вернуть иллюзию здоровья - это бывало лишь временным облегчением. Откуда могла взяться такая напасть? Для меня ответ ясен: в те годы у моей мамы не было больших переживаний, чем связанные со мной.
От родителей бабушка Таня получила хронический нефрит, от мужа - нервную болезнь, от сына - гипертонию. Самые близкие и дорогие ей люди оказались причиной ее болезни, и, в конечном счете - гибели.
Не подумайте, что я говорю это ради лицемерного кокетства или жалости. В том-то и дело, что даже сейчас, когда ясно вижу, сколько терзаний я причинил своей так рано умершей маме, я не каюсь и не жалею о своем тогдашнем поведении. Это страшно, но, наверное, и естественно, что именно близкие губят родного человека. Потому что к близким своим человек не равнодушен и именно от них нисходит на него вместе с радостью и основная масса огорчений и неприятностей. И гибель. Но, сознавая это, не надо забывать и первое - от близких исходит и радость. Сама жизнь.
Да, конечно, бабушка Таня получила от своих родителей, от деревенского "беганья босиком по снегу" пожизненную гибельную болезнь, неустойчивость психики - от сиротской юности, огорчения от родительской холодности и непонимания в последующей жизни. Но разве можно забывать, что только от них она получила саму жизнь, счастливо детство, чувство уверенности от присутствия живых родителей в мире, от их помощи. Ведь она и умерла на руках своей матери, так и не испытав горечи полного сиротства. Хоть в этом была счастлива до конца.
Да, Таня погубила свои нервы в борьбе за здоровье и благо своего дорогого мужа, чуть ли не головой пытаясь пробить стену упрямого отстаивания своей самостоятельности. Но именно он - был главным и единственным другом в ее жизни, целью и смыслом ее жизни (мне сейчас неожиданно вспомнилась ее запальчивая фраза, над которой я долго измывался: «Все - плохие, кроме твоего отца, да и он слишком простак"). Если бы она так не любила своего Володю, разве стала бы добиваться и разбивать себя до болезни и надрыва? Наконец, моя мама заработала себе гипертонию на своем сыне. Но разве в силах она была не прощать меня, не заботиться, не радоваться каждому моему (в последние годы - не частому) посещению. «Вот пришло мое солнышко", - так раскрылась она в предсмертные месяцы, а раньше не могла б быть столь откровенной.
Мы живем и питаемся соками, силами, нервами близких своих. Родителей своих прежде всего. Ведь к нашим бедам и неудачам они относятся ревностнее, чем к своим собственным. Но дети, я уверен, не должны из родительского здоровья делать культ, из-за боязни их огорчить не выходить из-под родительской воли и желаний, отказываться от самостоятельности. Да, родителям очень больно, переживания за детей укорачивают их жизнь. Но будет плохо, если дети будут на них оглядываться и не решаться на рискованные поступки, по своей воле и разумению. Достойная человеческая жизнь прекратится, если дети не будут убивать горем своих родителей...
Вот почему я не раскаиваюсь в маминых переживаниях.
Одной семьей. 1961-1968 годы.
Ваша мама и Артемка перебрались в Москву в конце 64 года, я в начале 65-го. С марта мы уже все вместе жили на Багратионовской, в той самой комнате, где живет сейчас один дедушкаШумно стало тогда в тихой квартире. Бабушка Таня вдруг очутилась настоящей бабушкой, в большой семье с невесткой и внуком, и не знала, как себя вести.
Вопрос об отношениях с будущей невесткой ее давно волновал, задолго до моей женитьбы. Любила повторять мне предание, по которому в раю до сих пор стоит незанятым золотое кресло для свекрови, угодившей невестке.
Живя при долгой борьбе своей мамы с отцом из-за "мелочей", как мне тогда казалось, я вырос в уверенности, что у нее тяжелейший, нетерпимый характер, осложненный болезненностью, что если мои "вольности" она терпит по природной любви к сыну, то с невесткой ужиться не сможет. И потому сразу же и честно (так мне тогда казалось) предупредил маму Лилю: "Ужиться с моей мамой очень трудно. Но из-за прописки нет другого выхода. Придется терпеть". Сейчас вижу - неправильно тогда сказал, оклеветал невольно бабушку Таню. Она была на удивление сдержана и терпима. Она любила своего первого внука и ей было важно сохранить мир в семье.
Было очень трудно жить больному человеку в одной комнате с ребенком и взрослыми детьми, но думаю, что именно в это время жизнь ее снова заиграла поздними красками и смыслом. Бабье лето. Сын, хоть и с трудом, но вернулся - понятым и домашним, без идеологических вывертов, под ногами ползал внук, а будет, наверное, и второй. Невестка оказалась сносной, хотя и не без недостатков по молодости и беспечности. Впереди маячила перспектива получения отдельной квартиры с тихим углом, перспектива жизни заботливой и уважаемой бабушкой в семье сына. Идеал спокойной и достойной старости. Конечно, не бог весть что - старость все равно не радость, но все же не мрачное одиночество с не нуждающимся в заботах мужем. Ради такого будущего стоило терпеть и приспосабливаться к невестке. Насколько хватало сил.
Однако не всегда терпения хватало. Обстановка однокомнатной жизни в шуме и на виду, уже накопленные болезни и нервозность не давали осуществляться её благим планам. Конечно, мы с вашей мамой тоже не сахар, а тогда - тем более мы не были сладкими. Не думаю, что мы и вправду были большими эгоистами, нетерпимыми к чужим советам, резкими в решениях и воспитании, «извергами» по отношению к детям, но что-то в этом, конечно, было. И уж понятное дело, ярились от любых видов поучений и нотаций. Их мы только терпели, мечтая все больше о будущей раздельной жизни. Особенно выматывали споры по поводу наших туристских отпусков и поездок, право на которые приходилось пробивать через раздраженные споры и чуть ли не слезы. И всё же, если мы терпели «временные трудности» и набирались вежливости и обходительности, то бабушка Таня, наоборот, уверялась в будущей совместной жизни. Уж лучше бы мы сразу и определенно говорили ей правду, лишали иллюзий. А с другой стороны, как можно лишать больного человека надежд, когда еще ничего не известно: живем вместе и, кто знает, сколько еще будем жить?

ВладимирКлиментьевич и Татьяна Дмитриевна иа свадьбе Маруси Гордеевой, 1965 год
В 1967 году была куплена дача в Усадково, вернее, садовый участок с землей, яблонями и домом. Эта покупка не была исполнением давнишних, заветных желаний моих родителей, как это часто бывает. Нет, они даже сомневались перед покупкой и спрашивали у нас совета. Но уверен, вздумай мы их отговаривать - не были б услышаны. Сомневались они сознанием, а действиями их руководила глубокая, непреодолимая интуиция.
Вступление в садовый кооператив - это лишь форма извечной "покупки земли", закономерного возврата к земле таких крестьянских по воспитанию людей, как мои родители.
В маминой жизни покупка дачи была, наверное, последней и благодатной радостью, позволившей ей протянуть еще несколько лет жизни после потрясения 1969 года. Здесь, в грибном лесу, на свежем воздухе, вдали от шума и споров, в окружении понятных хозяйственных дел (многое ей стало уже не под силу из-за гипертонии), она отдыхала и набиралась сил, чтобы выдержать новую зиму в городе.
Нашел себя на даче и мой отец. Для него, утратившего к этому времени веру в значительность своей заводской работы (пришлось молча признать справедливость Таниных упреков и аргументов в прежних спорах, но как горька и не нужна ей оказалась эта "победа"), возвращение к настоящей земле, к работе на ней оказалось целебным. Он снова, в который раз, проявляет все свои лучшие качества трудолюбия и упорства в перестройке и достройке дома, кухни, в перепланировке по своему вкусу сада, в обзаведении пчелами и пр. и пр. Ваш дед и сейчас остался таким же, и только смерть бабушки Тани подкосила его, окрасила все эти хлопоты бессмысленностью, выбила из жизненной колеи. Я не могу ничем ему помочь, остается только молить судьбу: «Дай Бог ему найти новую!"
Ведь раньше, как бы он ни "тянул-работал", как бы ни хлопотал, но тайной или явной заводилой его действий, центром распоряжений, была, конечно, бабушка Таня. А она понимала просто: для той большой семьи, в которой ей суждено жить заботливой бабушкой, нужен дом. Летний дом устраивался на "даче", зимний же дом (в виде отдельной двух-трехкомнатной квартиры) мало зависел от наших личных усилий и почти не подвигался в общей заводской очереди» на улучшение жилищных условий".
Разъезд. 1966 - 1974 годы
Только в 1968 году, за месяц до рождения Гали, когда юридически нас стало уже шесть человек в одной комнате, из которых один - инвалид II группы, а другой -грудной ребенок, завод откликнулся на давние заслуги моих родителей, отдал одну из освободившихся в доме комнат (в соседнем подъезде) в наше распоряжение. Это было, конечно, совсем не то, о чем бабушка Таня официально просила (отдельную квартиру на всю семью), но неплохим временным выходом из положения и укреплением наших позиций в заводской очереди .
Иначе смотрели на ситуацию мы с Лилей. Предложение отдельной комнаты в том же доме показалось нам счастливым подарком судьбы: жить отдельно от родителей по своей воле и в то же время - рядом с ними, рядом с их помощью и заботой. А мама не понимала нашей радости. С некоторой грустью я говорил ей: "И все же жаль, что нам не дали большой квартиры. Разъехаться легче, чем съехаться вновь."
Но человеку не хочется думать о плохом. Часто столь проницательная и подозрительная, моя мама, поддаваясь нашей радости и собственному желанию отдохнуть от шума, не чувствовала беды, не понимала, что ее только что созданная и укрепившаяся мечта-цель о большой семье - новый жизненный стержень гибнет, рассыпается, теперь уже навсегда.
Сам я, кажется, сознавал всю безнадежность положения и потому тянул с объяснениями, не желая разрушать необходимые ей для жизни иллюзии. Тянул, пока мог. Но тем горже было её наступившее разочарование.
Правда, перед зтим начались очередные неприятности со мной. В конце 1968 года меня проработали на заводе за "подписантство" (под возмутительными с точки зрения властей, но очень мягкими по форме просьбами: о пересмотре суда над демонстрантами на Красной площади 25 августа 1968 года и о возвращении крымских татар на родину). Кроме ощутимых реальных последствий той проработки (понижение в должности, исключение из аспирантуры, предупреждение об увольнении) были гораздо большие моральные последствия для моих родителей.
.Для меня проработка 1968 года прошла много легче потрясений 1961 года, для них – тяжелее. Правда, и в 1961 году моя история не прошла мимо заводской "общественности» (со мной, кажется, даже беседовал секретарь заводского парткома на предмет возможного оказание помощи). На тогда моих родителей просто жалели, что их "мальчик" почему-то оступился и стремится "исправиться". Сейчас же положение было совсем иное: я работал на том же заводе, был у всех на виду, своими поступками "марал" уже не какой-то институт, а честь самого завода. Мало того, история повторилась, следовательно, я был уже "закоренелым", «рецидивистом", тем более что, несмотря на давление, не желал ни каяться, ни переубеждаться. Действительно, "закоренел". С каким бы удовольствием заводское начальство уволило столь неудобную личность, но не было на то верхнего согласия (всех подписантов стригли под одну гребенку - проработками и предупреждениями, а увольнять всю массу - слишком много "визга" будет).
Вся история моего "осуждения» в 1968 году разыгралась прямо на глазах отца и матери, в среде их давних знакомых, внутри взаправду им «родного» коллектива (пусть даже небезразличного только). Их сверстники и знакомые, дышали и дышат еще воздухом сталинских чисток и проработок. И если для верхнего начальства мои "проступки" не кажутся такими уж тяжелыми, а родительской вины они совсем не видят, то для многих членов "родного коллектива" вина моих отца и матери казалась несомненной. Ведь они воспитали настоящего "врага народа". Времена, жалко, другие. Официальных осуждений произносить нельзя, но словесных и "частных» было сколь угодно (в основном, правда, от лиц, лебезивших перед начальством). Странное дело, но мне лично на заводе было много спокойнее и увереннее, чем отцу и маме. Даже через много лет после моего ухода с завода им напоминали и тыкали в нос моей историей при всяком удобном случае. И может, те самые людишки, которые со мной самим разговаривали в то время вежливо и внимательно.
Положение осложнилось приездом перепуганных Лилиных родителей - вашей бабушки Фаины и деда Коли, чтобы "спасать дочку и внуков". Но что они могли сделать? Только переругались с нами и моими родителями, недвусмысленно бросив им упрек в плохом воспитании сына, который губит их дочь и внуков (все тот же упрек и воспитании "врага народа"). Каково это было слышать матери?
Прежде неплохие отношения теперь испортились и больше не восстановились. И вину за то я обязан принять на себя.
Конечно, всё походит. Прошла и острота моей проработки. Все успокаивалось, и я осваивался с новой для меня ролью заводского "диссидента". Из всех оргвыводов на мою голову наиболее чувствительным оказалось не отстранение от исследовательской работы (так я и не провел ни одного опыта на близкой к окончанию экспериментальной установке), а предупреждение об увольнении и вынужденное в связи с этим стыдное решение не подписывать больше протестов. Примириться с этим трудно до сих пор. В этих оргвыводах я и не заметил такой "мелочи", как приостановление нашей заводской очереди на жилье. В завкоме родителям объяснили, что все прежние обещания - недействительны, что ни о каких жилищных переменах для "Сокирок" не может быть и речи. Знали б - в апреле второй комнаты ни за чтоб не дали. А могли бы не дать - в марте 68 года я поставил свою подпись под протестом по суду Галанскова-Гинзбурга, но она "затерялась", не дошла до КГБ и западной печати. Поэтому я не попал в весеннюю "проработку" и на меня выписали комнату, имевшую огромное значение для нашей семьи. Такова цена "затерянной» подписи.
Для нас с Лилей потеря жилищной перспективы на заводе не была чувствительной в ряду прочих бед. Другое дело - для моей мамы. Вот когда она реально поняла, что ее мечта жить вместе с внуками заботливой бабушкой отодвигается в бесконечность. К тому, что сын у нее вырос «непутевым", она все же привыкла и не огорчалась, что ему закрыта карьера административная или научная. Но перспектива жить до смерти в коммунальной квартире с нелюбимой соседкой - показалась ей тогда невыносимой.
Как раз в этом году отцу исполнилось 60 лет, и он ушел на пенсию, а вместе с ним, по инвалидности ушла на пенсию и мама. Но долгожданный приход пенсионной свободы не доставил им радости. На зиму дача была нежилая, дети и внуки хоть и жили рядом, но совсем отдельно, старались просьбами и участием не тревожить. Что же делать со свалившимся свободным и пустым временем? - Вернуться на работу? Но как тогда быть с идеалом и мечтой уважительной, спокойной старости среди внуков? И неужели она обречена до гроба тащить лямку суточных дежурств на заводском здравпункте?
Конечно, завод теперь не даст им отдельной хорошей квартиры на всю семью. Но может, найти ее самим? Бабушка Таня пробует искать, но ничего толкового не находит. Остается только сменяться комнатами с ее соседкой и получить двухкомнатную квартиру в нашем же доме. Что нам и предлагается
Вот когда мне пришлось повертеться, убеждая не торопиться с решением, убеждая, что это не выгодный обмен (мы теряли 9 кв. метров жилой площади), что следует подождать другого варианта или перемены заводского решения. Что ей, больной, будет очень трудно слышать плач маленькой Гали, даже в соседней комнате. Ничто не помогало - мама поняла всю опасность.
Пришлось сказать прямо и определенно: "Нет, мама, сейчас мы съезжаться не будем, Лиля не хочет, и я ее понимаю". Все. После этих слов объяснений больше не нужно. Мама давно могла бы догадаться, но не хотела этого делать. Тут же ей пришлось увидеть сразу и полностью всю непереносимую правду: дети и внуки не хотят и не будут с нею жить вместе... Потом, годы спустя, она рассказывала: «Я почувствовала, что меня гонят, как собаку. И кто гонит?- единственный сын..."
Свет померк для бабушки Тани.
Может, даже сильнее, чем в катастрофе 1955 года после Володиного отказа идти к врачу. Ведь теперь ей было больше лет и еще хуже, намного хуже здоровье. Жизнь снова потеряла смысл и цену. И снова, еще плотнее обступили болезни.
Сразу же после этого она заболела. Простуда, потом обострилась гипертония, небывало высокое давление. Несколько недель лежала дома, в соседнем с нами подъезде, нам не звонила, как будто ушла в молчание. Только дедушка Володя ее выхаживал, да прибегал проведывать маленький Артемка. Я же, пристыженный, не показывался. Боялся новых слез, уговоров, жалоб. Дел было всегда достаточно, хватало и поводов, чтобы убедить себя в недостатке времени для визитов к матери.
Сейчас я вижу - здесь моя большая вина, себя жалел, свои нервы. А ведь мог бы и ходить, и слушать сетования, и оправдываться, чем снял бы немного ее душевные терзания, притушил их своим виноватым видом.
Я не раскаиваясь в тех огорчениях, которые причинил ей в 1961 и 1968 годах неугодными для властей поступками. Эти огорчения были неизбежны, да и не они нанесли ей основной непоправимый вред. В глубине души она понимала, что у взрослых детей - своя дорога. Но разрушение цели ее собственной жизни, холодное оставление ее без поддержки, в одиночестве с мужем - такого предательства она мне, наверное, так и не смогла простить. Хотя и не заговаривала об этом. А сейчас я именно в этом горько каюсь. Горько, потому что поздно. Сделанного иль не сделанного не вернешь. ..
В конце концов, бабушка Тани попала в больницу. Там ею основательно занялись, с помощью высокоэффективных лекарств снизили страшно высокое давление, подняли на ноги. Скоро после возвращения она вернулась на работу. После лета вернулся на работу и дедушка Володя, и зажили они вдвоем так, как жили раньше без меня.
Но от высокого давления и бессонницы бабушка Таня избавиться теперь не могла. Ей все мешало спать – холодильник, настенные часы, шум на улице. Она стала как бы порченой. И хоть вышла на работу, но ее трудоспособность резко снизилась. Даже обычную домашнюю работу она делала уже с трудом - не могла стирать, мыть полы, с трудом ходила в магазины. Только готовка еды была пока в ее силах.
Вся оставшаяся энергия уходила у нее на работу, за которую она теперь держалась, как якорь спасения. Стремление заработать максимально возможный для медсестры размер пенсии стало ее квазицелью. Коллеги-медсестры ей мирволили, часто подменяли на дежурствах в периоды ее болезней (негласно). Так она дотянула до 1975 года. Только весной 1975 года, когда ее выписали из больницы как безнадежную, она была оформлена на этой самой "максимальной пенсии" и получила ее в первый раз. Второй раз эти деньги получал уже дедушка Володя сразу после ее смерти. Тратил их не на жизнь, а на похороны.
Но это - позже.
А тогда, шесть лет назад, на нянченье маленькой Гали сил у бабушки Тани оставалось очень мало. Смертельно обиженная на нас в те годи, она обычно не соглашалась помогать, но когда мы решительно оставляли Галю на прабабушку Полю, она не выдерживала и приходила к ней сама.
Правда, шум от живой Гали утомлял ее гораздо больше, чем Артемка. А нам это служило лишним подтверждением невозможности совместной жизни: "Видите, мама, Вам даже день трудно пробыть с детьми, а если все время?" - И она соглашалась, в общем, с такими доводами. Хотя звучали они для нее, может и так: «Что ж мама, Вы уже старая и больная, ни на что не способны, потому живите от нас подальше. Лучше будет". Но где нам было понимать такие тонкости, когда понимать их вовсе не хотелось.
Да и не до тоски теперь стало бабушке Тане. К ней придвинулась вплотную и нешуточно главная опасность - гипертония. Гипертония сделала ее слабой, инвалидом в полном смысле, противной самой себе ("инвалид" или "кусок инвалида" одно из худших ругательств вашего прадеда Митрофана). Отбросить эту немощность, вернуть себе силы и здоровье - стало теперь ее главной заботой. Борьба за жизнь постепенно становилась главной целью ее жизни, а я не понимал этого и думал, что мать стала еще более терпимой и не поминает больше про совместную жизнь. Вернее, заводились иногда такие разговоры, мы сами делали попытки найти обмен своих комнат на 3-х комнатную квартиру, и эти попытки воспринимались бабушкой Таней благожелательно, но спокойно, без лишнего интереса. То ли потому, что она уже не верила в совместную жизнь, то ли потому что ей было уже не до планов этой совместности, не до тоски от будущего одиночества. Перегорело.

Бабушка Таня с Сережей и Артемкой.
Стремления ее стали стягиваться вокруг выздоровления - хоть ненадолго, хоть на несколько лет (5-10), чтобы пожить спокойно, как жилось раньше, совсем недавно. Поведение ее стало глухой обороной от наступающей смерти. Чем больше ее интересы замыкались на своем выздоровлении, тем становилось хуже. Выздороветь значило тогда - снизить кровяное давление. Она достала аппарат для измерения давления и постоянно контролировала свое самолечение. Долгое общение с участковыми спешащими врачами приучило не доверяться им. Основным инструментом этого самолечения были лекарства из разных стран. Потребляла их уйму. Какие-то помогали сначала, потом приходилось усиливать дозы, а потом выяснялись нежелательные последствия, переходила на другие средства. И так без конца.
. Неумеренное потребление лекарств вконец расстроило больные почки, и они отказали.
... А мы, все вокруг, относились к ее самолечению спокойно: «Мать болеет и себя лечит. Ну что ж, она всегда болела и себя лечила, потом проходило. Авось и сейчас все обойдется, и она станет прежней". Я многого не понимал.
Ну, а если бы понимал, мог бы что-нибудь изменить? - Наверное, нет. Наверное, поздно. Не от печек, так от сердца - но близкий конец был уже неизбежен.
А с другой стороны - если бы я настаивал на соединении во что бы то ни стало, и нам снова пришлось бы сжиматься в своей воле и желаниях и терпеть поучения - уже без перспектив на облегчение - то сколько бы это могло продолжаться и не кончилось бы еще худшим, еще более резким разрывом и разъездом? А как следствие - еще более скорой смертью моей мамы?
Мозг услужливо подсовывает положительные ответы, но я не хочу снимать своей вины за свои немногие слова, после которых мама смертельно заболела, и я до сих пор не знаю, что должен был говорить тогда.
Смертельная болезнь.1974-1975 годы.
Мне осталось рассказать вам о последнем годе жизни бабушки Тани.
Весной 1974 года мы переехали в кооперативную квартиру в "Печатниках", с сожалением бросая родные Фили и дом с родителями. Мы окончательно расставались, это было всем ясно. У мамы это уже не вызывало никаких ревнивых чувств. Напротив.
Лето она провела на даче с Артемкой. А с конца августа заболела. Той самой непонятной болезнью, которую лишь через полгода, в больнице отличили от гипертонии и расшифровали как неизлечимый нефрит и азотемию, как безнадежное перерождение почечных тканей.
Но, еще не зная этого беспощадного диагноза и лишь чувствуя особое недомогание, она поняла, что дело худо. Я уверен, что уже осенью она серьезно думала о близкой смерти. Но... и тут проявилась ее душевная сдержанность: никому о том она не говорила, никого не тревожила напрасно. Только иногда, мечтательно желала: «Хотя бы еще два годика побыть здоровой". Я уже рассказывал вам, как в ноябре, совершенно больной, она гостила в нашей новой квартире несколько дней. Теперь-то я вижу, с выжимающей слезы ясностью вижу, что эти гостевые дни были началом ее прощания с так и не осуществленной будущей жизнью, с прежней мечтою о жизни заботливой бабушкой со старшими и только что родившимися внуками. "И ведь внуки какие, удались на славу! А жизни нет…" Прошли эти дни, приехал дед Володя и увез ее, слабую, к себе на Багратионовскую.
Потом потянулись недели, полные ожидания улучшения и исцеления. Но состояние не улучшалось. Слабость, даже рвоты. Теперь, живя в разных концах города, приходить к родителям стало труднее, но я старался бывать регулярно. При обычной уверенности "все пройдет как всегда" неясное чувство опасности и меня томило, но сознание его забивало.
В январе 75-го года на дне маминого 60-летия я искренне пил за долгие годы ее жизни - 10-20 лет как минимум. Но тут же настаивал, чтобы она легла в больницу. Ведь в прошлый раз она попала к хорошему, внимательному врачу и помогли, подняли на ноги. Надо найти этого врача и постараться попасть к нему в отделение. Пусть хоть диагноз правильный установит, чтобы знать правильный курс лечения, не шарахаться в модных лекарствах и советах участковых врачей от одного к другому. Хоть разобраться в этой странной и долгой болезни.
В феврале она попала-таки в больницу, к тому самому врачу. Но мои надежды оправдались лишь частично. Врач, действительно, докопалась до первопричин болезни, но не вылечила и эффективного лечения не назначила. Назначить эффективное лечение тамошний врач не могла. Это было не в ее силах. Мама лежала в гипертоническом отделении и потому ей снизили немного давление и выписали домой, фактически, как безнадежную, не объявляя этого ни больной, ни ее родственникам. Больница поступила формально, отпихнулась от невыгодного больного, не остановившись перед тем, чтобы ввести нас в заблуждение. Но почему-то у меня нет претензий к лечащему врачу. Эта внимательная и трудолюбивая женщина не покривила душой - она выдала маме на руки всю историю болезни с подробным и несомненным диагнозом. Больничная политика запрещала быть откровенной даже с родственниками, но с таким диагнозом мы могли бы догадаться и сами. Но куда нам... спохватились, когда совсем плохо стало. А в феврале думали: после больницы ей стало немного лучше, домашнее лечение назначено – замечательно. Теперь дело пойдет на поправку. Пусть даже медленно...
У мамы отказывались работать почки, в организме копились соли и шлаки, отравляя его, вызывая слабость и рвоты, а ей могли рекомендовать лишь мочегонные средства и диету, только пассивные средства, не излечивающие, а притормаживающие процесс отравления и смерти.
Теперь-то я знаю, что лечебный выход был: хронический диализ, т.е. периодическое искусственное очищение крови с помощью аппарата типа "искусственная почка". Считается, что при неработающих почках человек погибает через двое-трое суток от накопления в крови солей и шлаков, которые в свою очередь притягивают воду и раздувают тело водянкой. Если же кровь периодически, 2-3 раза в неделю очищать, то человек будет жить. Даже годами. Даже совсем без почек, не говоря уже о моей маме, у которой почки плохо, но еще действовали.
Конечно, такой жизни на привязи к клинике с ее аппаратурой трудно позавидовать, но все же это жизнь! А маму выписали из больницы, даже ничего не сказав о такой возможности. Почему? Я, конечно, не знаю, но догадываюсь: уже в феврале больничный врач "навела справки" и поняла, что больной Глобенко Т.Д. не позволят прибегнуть к аппарату "искусственная почка" из-за дефицитности последней. Тогда-то и стала Глобенко Т.Д. безнадежной больной, о чем лучше никому не говорить, а уж об искусственной почке совсем не поминать... Врачебная этика!
Теперь я знаю: спасение, пусть временное, пусть на годы - было, но в нем отказали. Звучит как приговор к смерти. Страшно звучит, но такова действительность нашей гуманной и бескорыстной медицины. Ее действительная изнанка.
Смертельную болезнь не скроешь. Сразу после больницу у мамы стали опухать ноги. В крови накопилось уже так много дряни, что организм начал предпринимать экстренные меры, он стал разбавлять кровь водой, чтобы снизить концентрацию вредных веществ до приемлемого уровня. Емкости кровяных сосудов теперь не хватает, вода их расширяет, поступает в ткани, начиная с ног, где давление больше. Вода как бы наливает все возможные емкости тела, от ног все выше и выше -вплоть до мозга и легких. Таково течение водянки, от которой и умерла моя мама.
Когда в марте опухлость ног у нее не исчезла, а, напротив, поднялась выше колен, - и дураку станет понятно, что такой процесс сам собой пройти не может, что мать сама вылечиться не может, что надо что-то предпринимать.
Понял это и я.
Кстати, врач при выписке советовала маме пить меньше, а если пить - то боржоми, поскольку он лучше утоляет жажду. Дело в том, что из-за накопления солей в крови организм чувствует нестерпимую жажду, которой очень трудно противостоять, особенно человеку с подорванной волей. Дополнительная же вода еще ухудшает положение, усиливает опухание. Рекомендация пить "Боржоми" означала лишь рекомендацию меньше пить. Мать же нам представила эту минералку, как очередное средство лечения, правда, редко бывающее в магазинах. Обрадованные, мы достали много бутылок. А потом раскаивались... Мама забыла рекомендацию "пить меньше" и потребляла в день одну-две "целебных" бутылок. Медленное опухание теперь сменилось быстрым. Вода начала наливать живот и поясницу. Ходить стало совсем трудно, и она почти не вставала с постели.
Начали опухать кисти рук. С ужасом смотрел я на это. С не меньшим ужасом я слушал ее разговоры о завещании. Я не хотел и не мог слышать о ее смерти, но ясно было, что в свое выздоровление она уже не верит, лечить сама себя уже не может.
Что было делать? В больничных диагнозах я не разбирался и как лечить это опухание - не понимал. Надо было искать настоящего врача.
Консультация. Апрель 1975 года.
Я не люблю врачей, вернее, не люблю к ним обращаться. Ничего не понимаю и не желаю понимать что-либо в их делах. Но тут был крайний случай, и я мог просить от своих знакомых максимально возможной помощи.
Марк Александрович, ознакомившись с диагнозом, растолковал мне современную ситуацию с лечением почек, рассказал про аппараты "искусственная почка", устроил консультацию у ведущего специалиста (заведующего лабораторией хронического диализа акк. Тареева) и обещал сделать все, что в его силах, чтобы поместить маму в клинику. По моим представлениям силы и авторитет Марк Александровича в медицинских кругах были такими большими, что в успехе (если он только был возможен) я не сомневался. Даже пробовал описывать все это маме, уговаривая ее решиться на консультационную поездку. В начале она принимала мои бодряческие объяснения настороженно, и даже страшилась возможной "машинной жизни", но потом вдруг оживлялась, как будто передавалась ей частица моего энтузиазма: "Ну, хорошо, раз вы этого сами хотите, поедем". Я радовался,: как будто вернулась к ней надежда на жизнь. Нет, не на долгую жизнь, а хотя бы на два годика еще... Ведь обидно умирать в 60 лет...
Сама идти она уже не могла, вели под руку, с трудом усадили в такси, а уж в клинике добирались до кабинета с долгими перерывами. Распоряжался всем Марк Александрович.
Заведующий лабораторией (по моим тогдашним чувствам - почти бог врачебного всемогущества)- молодой кандидат - прочел историю болезни, быстро осмотрел маму, задал ей несколько вопросов о диете и количестве ежедневно выделяемой мочи и попросил меня увести ее в коридор. Как передернула меня эта холодная бесстрастность. Но - подчинился.
Вернулся я в уже начавшийся разговор. Не знаю, о чем говорил зав. с Марком Александровичем. Очевидно, что, не желая разговаривать откровенно с больной и ее сыном, вряд ли он был откровенен и с Марком Ал. Тем не менее...
"Положение очень серьезное. Но об аппарате искусственной почки не может быть и речи. У нас в лаборатории всего 8 аппаратов, работают с полной нагрузкой, и не могут обслужить даже больных нашей клиники. Сейчас мы подключаем на диализ лишь больных с временным расстройством деятельности почек. Подключать же настоящих хроников, надолго, может, на годы - значит, быстро съесть весь машинный фонд, остаться ни с чем. Нет, таким хроникам мы отказываем почти всегда.
Проводить операцию по замене почки тоже невозможно из-за возраста и состояния сердца. Следовательно,...» -
"Но ведь тем самым Вы многим хроническим больным просто отказываете в праве на жизнь, как приговариваете к смерти", - говорит Марк Александрович.
"Фактически так» - соглашается зав. - «но у нас пока нет другого выхода. А чтобы избежать произвола в приеме или отказе на лечение, мы организовали комиссию под председательством акк. Тареева, которая одна имеет право ставить больных на подключение к машинам. Я - член этой комиссии и могу Вас заверить на 100%, что Вашей больной откажут".
"Неужели ничего нельзя сделать?» - вступаю я.- "Человек работал всю жизнь, заработал пенсию, имеет деньги на любую машину и помощь ради жизни - и ничего нельзя сделать? Почему?"
" Поймите, дело не в нас. Аппаратов типа "искусственная почка" в стране очень мало. В Москве одна моя лаборатория, еще одна - вне Москвы. И это практически - все. Потребность удовлетворяется лишь на долю процента. Капля в море. Почему не выпускают больше аппаратов? К 1980 году намечено увеличить их количественно и тогда, конечно, будет не хватать. Что ж тут можно сделать?
Но погодите, погодите, давайте говорить о другом. Почему все уперлось в искусственную почку? Да, кардинальное решение для Вашей больной сейчас невозможно: ни оперативное - она может умереть на столе, ни аппаратное. Но ведь у Вашей больной свои почки еще действуют. Плохо, но действуют. Надо только наладить правильный режим. Прежде всего, согнать воду с тела и установить баланс: пить жидкости не больше, чем выделяется. Положение, конечно, очень серьезное, надо принимать экстренные меры - ударные дозы сильнодействующих мочегонных средств, снизить давление, установить строжайшую бессолевую и безбелковую диету. И если это удастся, можно установить режим, при котором почки будут справляться, можно будет жить..."
Говорил он веско, уверенно, профессионально. Сейчас мне ясно, что говорил он не ради лечения, а ради меня. Чтобы дать надежду, возможность борьбы. Его обман был столь понятен, что какой-то своей частью я его сознавал, но другой, более активной частью (душой что ли?) полностью доверился его уверенности. «Что же делать? Ведь аппарат тоже выход не надолго... кровь мотор гоняет и разрушает... да и тяжело как... на дачу не поедешь, ведь это главная мамина радость... А может, он прав и могут ее почки сами работать... Да и реально надо судить... все равно не добьешься ... Вон Марк Саныч с ним соглашается... молчит... Главное, диета и баланс воды... баланс воды... И, конечно, никакой работы - и она сможет жить, пусть на помощи... А чего ж еще нужно, Боже мой... только бы наладить этот режим..."
А другая моя часть сопротивлялась, негодовала, упрекала за самообман, за капитуляцию перед непреклонным отказам в единственно реальной и близкой (где-то здесь, за стеной) помощью, металась в поисках способа воздействовать на врачебного бога и не находила, только выплескивалась в жалком лепете о том, что может все-таки, хоть не надолго, хоть на разочек профильтровать мамину кровь, первую воду согнать... Но, наталкиваясь на завову непреклонность и профессиональную снисходительность, все реже и слабее становились эти попытки и всплески моего бессильного реализма, и тем внимательнее и торопливей я записывал рекомендации лекарств - заграничных, дефицитных, труднодоставаемых, диету, в которой хлеб из особой (потом оказалось - несуществующей) пекарни, что основа всех блюд - особый крахмал, этого нельзя, а это, это, это - можно...
В общем, он был мудр и циничен, этот врач, и забил мне голову напрочь своими советами, заставил благодарить на прощанье...
Вернулся к маме в коридор я деятельно оживленным. Выходило вроде, что аппарат и не нужен вовсе, что если нам всем получше взяться, то можно повернуть болезнь вспять... Мама слушала меня спокойно и даже ублаготворено: "Ну и хорошо. Сами справимся..." Как будто иного она и не ожидала, и не было в это утро у нее искры надежды. Как будто была рада, что выполнила этой поездкой мою волю-прихоть, что оживила-утешила своего мальчика...
Такси возвращало нас домой все тем же Кутузовским проспектом. Давно уже, очень давно она не была здесь, в магазинах по сторонам, и оживленны были ее глаза. Конечно, теперь она понимала, что смерть близка. Оживленные рассказы сына о лекарствах и диете не давали ей ничего нового (это было лишь вариантом того, что ей говорили два месяца раньше в больнице и что не дало выздоровления). Она благосклонно их слушала и ясно понимала, что больше никаких консультаций не нужно, что даже высшая врачебная "Наука" от нее отступилась. И что поездок больше никаких не будет. И может, едет московскими привычными улицами последний раз. Последний раз едет от врачей домой, обороняться от смерти в одиночку. Ах, хотя бы еще два года, хоть годик бы еще... Московскими улицами она и вправду ехала последний раз.
С того дня я не переставал колебаться от суматошного бега в поисках импортного "лазикса" (мощного мочегонного средства) и накачивающих разговоров с отцом, еще не осознавшим страшной ситуации, - до слез бессилия и отчаяния. В эти трезвые и, к счастью, редкие минуты я лаял про себя врачей, медицину, их равнодушие, ее слепоту и бесплатность.
В жизни много смертей, много трагедий. Ужасно, когда человек умирает от рака и ничем нельзя ему помочь. Еще хуже, когда спасти можно, когда есть реальные средства спасения, а ты не добиваешься их, не вырываешь их зубами, а поддашься обману и иллюзиям. Других больных высокопоставленных, наверное, спасут, а вот для моей мамы - «возможностей нет"!
А ведь она так истово верила советской медицине, так ревностно ей служила, как Богу.
Неужели не заслужила она этого чертового аппарата?
Неужели мы все, ее близкие, его не можем заслужить?
Я видел снимок этого агрегата в книжке Марка Александровича. Невысокий бачок вроде стиральной машины. Нехитрое устройство-набор целлофановых фильтров, насос для перемешивания крови, простые приборы. И все. При налаженном производстве, не только вид, но и стоимость его будет, наверняка, на уровне стиральной машины. И вот этой-то жестяной и целлофановой чепухи - нету! Величайшая держава не находит сил сделать их для многих тысяч своих умирающих. Спасает из них лишь долю процента! А к 1980 году планируют "несколько увеличить эту долю" - каков успех! Черт, дьявол, сволочи! Я вою от ярости. Вы что же и в 2000-ый год вползете с умирающими от "дефицита" этих железок?
Мне говорили: но нельзя же все сразу - нужно спокойно и планомерно. Искусственная почка возникла недавно - наша промышленность еще не успела... Но я не могу "спокойно и планомерно" - у меня мать умирает.
И потом, ведь врете. Я смотрел энциклопедию: искусственная почка создана в 1913 году, еще до рождения моей мамы, и с 1944 года на западе реально спасает людей. Всех людей. Почему же у нас тогда такое завидное спокойствие? Почему мы умеем быстро поворачиваться лишь в ракетах и атомных бомбах?
- Да потому что наплевать государству на тысячи почечных умирающих. Да, наплевать! Это я говорю точно, говорю на основании факта, убийственного факта. Факта смерти моей мамы.
Кто бы мог подумать, что в наше время существует вот такая врачебная комиссия под председательством академика, которая потоком рассматривает "дела"- не преступников, а заслуженных и честных людей. И что эта "гуманная" комиссия приговаривает к смерти 99 из 100 рассмотренных и даже больше. И лишь на основании производственной необходимости! Ну, кто из нас это может знать? - Только сами умирающие да их близкие. Да и те не сознают, кто виноват, иль виноватых нету.
Иногда, когда боль и ярость меня отпускают, я взаправду стараюсь быть спокойным и трезвым. Ну, хорошо. Государство - не всесильно. И допустим, пушки и атомные бомбы нам, действительно, нужнее, ибо случись война, будут гибнуть миллионы совершенно здоровых людей, а не тысячи почечных больных. Пусть государство даже право в этой арифметике будущих потенциальных и нынешних действительных смертей. Пусть государство не может. Денег у него не хватает.
Но у нас-то самих - ведь хватило бы денег! Неужели и сама мама с ее «полной пенсией", и отец с его заработком, и братья-сестры, и дети-внуки - не могли бы купить ей нужные часы пользования аппаратом, чуть сложнее холодильника? И оказывается - нет: система бесплатной государственной медицинской помощи запрещает врачам и медицинской промышленности ориентироваться непосредственно и сразу на потребности больных и на их денежные возможности. Можно ориентироваться только на план, только следовать высшим распоряжениям начальства. А ты тут, внизу, хоть истекай криком: «Не хочу телевизор, хочу купить искусственную почку для мамы", тебя, букашку наверху не услышат и выдадут тебе "по плану" - телевизор. Чтоб Вы пропали с вашим людоедским планом, не знающим и не желающим знать ни людей, ни их воли, ни их желаний, с вашим бесплатным, слепым здравоохранением, с вашей надутой и глупой гордостью: «У нас лечение гораздо дешевле, чем на Западе, и почти бесплатное!" Да потому и дешево, что мало тратят, плохо лечат, не имеют достатка в инструментах и аппаратах. Потому и бесплатно, что не лечат, а лишь халтурят, замазывают болезни. Лечат так, как лечили в феврале 75 года мою маму: болела почками, а ей снизили давление и на основе этого "улучшение" отправили домой умирать, хотя средства спасения были.
Я уверен: разреши больным платить врачам деньги, и разреши врачам за эти деньги заказывать у промышленности нужное им оборудование, тысячи больных, конечно, будут спасены. Что ж, со мной могут согласиться, но не преминут спросить: "А как же тогда принцип бесплатности нашей медицины, ее общедоступности и социалистичности?" И вот, чтобы не гибли перечисленные мифы, гибнут реальные люди.
Так будьте вы прокляты!
Я знаю, меня можно упрекнуть в резкости, в пристрастности. Я и не могу быть сейчас холодным и объективным. Не хочу быть беспристрастным, не хочу взвешивать на весах успехи и неудачи нашей медицины, ее плюсы и минусы. Как экономист, я могу легко представить, как происходит такое несчастье в обществе, когда перепроизводство телевизоров и развлечений дается убийственным недопроизводством "искусственных почек".
Все определяет Госплана - он планирует от сложившихся пропорций вчерашнего дня, намечая лишь осторожные их изменения и лишь по рекомендациям различных главков и ведомств. И если на планирование пропорций между производством тех же телевизоров и холодильников лишь косвенно и через длинную вереницу начальников, но влияет соотношение реального и покупательского спроса (холодильники, например, хватают, а телевизоры не берут), соотношение реальных человеческих желаний и воль (народной воли), то на пропорции между производством, допустим, зубоврачебных кресел и аппаратов "искусственная почка" влияет только мощь и авторитет различных медицинских ведомств или "научных школ". Академики спорят, начальники доказывают, что именно их необеспеченность деньгами и оборудованием приводит к повышенной смертности советских больных. Учета же реальных потребностей реальных больных нет и быть не может в "бесплатной" медицине. Не говоря уже о том, что не может быть гибкого перелива средств из "платного" ширпотреба в "бесплатное" здравоохранение.
Так и получается, что если, допустим, специалисты по сердцу привыкли получать львиную долю средств и оборудования, выделяемых из года в год Минздраву, то плевать им на то, что "почечникам" эти средства еще нужнее. И тем более плевать на это специалистам по телевизорам. Все больные умирают в одиночку и жалоб не пишут. А раньше они это сделают или позже, какая разница? - умирать ведь все равно надо... И какое отношение имеет их частная жажда спасения к такому общегосударственному (такому важному в грызне ведомств) вопросу, как распределение капитальных вложений?
Повторяю, я могу понять логику происходящего - значит, оправдать конкретные лица и учреждения. Но только вот как мне быть с маминой смертью? - Ей было шестьдесят лет, она беззаветно верила и гнула спину на Медицину. А медицина от нее отвернулась, приговорила к смерти. Не медицина, нет, что-то более общее!
"Пепел Клааса стучит в моём сердце" - эти слова вошли в мою душу и бьются там не переставая. Теперь они навсегда связаны с памятью о маме.
Перебираю сегодня варианты возможного в то время поведения, чтобы понять - а не оказался ли я сам в плену у "государственного плана"? Мне сказали: "Нельзя!" - я и смирился. А нельзя ли было самому сделать такой аппарат?- Найти связи с изготовителями этих аппаратов... и пусть даже на "левых" материалах и чертежах, на "левой" работе... плевать на риск, плевать на то, что изготовление "частным образом" любого оборудования у нас почитается преступлением... Да черт с ними, пускай судили бы за попытку спасение матери...
Замечтаюсь так, но тут же опомнюсь: во всех странах гемодиализ ведется лишь в клиниках - нужны специалисты, черт бы их драл, нужны особые растворы, много растворов, нужны опыт и технология, отлаженная десятилетиями. А у меня оставался до маминой смерти лишь месяц с небольшим.
Тогда я еще верил в возможность самолечения, еще бегал за лекарствами и пытался контролировать диету. Мама терпеливо все переносила: и три полных шприца лазикса в день, и лишь одну картошку в день и сильнейшее ограничение воды. К концу апреля у нее спала опухлость рук и даже стало меньше воды в пояснице и животе. Ноги были еще налиты, но стали мягче, как будто в них снизилось давление. Я торжествовал - водянка явно отступала! Думалось: вот так и надо держать дальше, когда вода совсем уйдет, можно будет и смягчить режимы пищи и лекарств. Только выдержать характер и будет все хорошо. И даже к лучшему, что маме не дали аппарат, не привыкла она к нему... На дачу поедет, там силы у нее прибавятся без всякой еды...
Удивительна эта склонность людей к самообману. Я теперь понимаю: лазикс только выкачивал из тела воду, но не очищал организм, он давал только временное облегчение. Вода на деле и не думала отступать: она находила новые области тела для опухания, а в уже заполненных участках несколько снижалось давление и растянутая до лопания кожа мягчела и собиралась морщинками - складками. А мы принимали это отступление воды перед рывком - своей победой. Так повторилось и в мае. Даже в последнюю неделю, когда вода добралась до маминого лица, раздула его до невероятности, через два дня вдруг отпустило, и я в свой последний приезд к ней на дачу увидел густую сеть морщин на едва узнаваемом лице.
Я радовался, не понимая, что вода отступила, чтобы наброситься на последние работающие ткани мозга и легких. Через три дня все было кончено.
А я - все еще оптимистировал, утешал и планировал. Ясно, что улучшений нет, что смерть неизбежна, что бессмысленно и безжалостно мучить маму ограничением воды и еды, лучше выполнять последние желания умирающей, но принять это - невозможно. Нельзя отказаться от мысли, что шансы на спасение все же есть, нельзя удержаться от цепляния за любые признаки, хоть немного похожие на улучшение. Может, срабатывал инстинкт самосохранения, не пропускающий в сознание страшной мысли, а, может, это стучалась в душу Вера. Не знаю...
Помню, в тот же месяц один из знакомых тихо предупредил: "Знаешь, Витя, не рвись, не бейся головой об стенку. Процесс естественный, все там будем". Он был прав, но только как можно смотреть на смерть и не спасать, не мучиться? С ума сойти можно...
И хотя мама умерла, но я знаю: надо действовать обязательно. Во-первых, в некоторых случаях, я верю, сильное упорство вызывает чудо спасения. Жизнь такая сложная, такая хрупкая и вместе с тем такая могучая вещь, что о ее конце никогда нельзя судить с полной определенностью. Жизнь - такая важная вещь, что за нее надо бороться до конца. В этом убежден. А во-вторых, душевно мысль о неизбежной смерти столь непереносима, что лучше борьба любой степени безнадежности за сколь угодно малую надежду.
Последний приезд на дачу. Май 1975 года.
Да, конец апреля был нам радостен отступлением водянки. 4 мая была Пасха, и мы из Печатников, вшестером, поехали к бабушке Тане и деду Володе на праздник. В последний раз.
Я знал, как мама любила и радовала этому главному семейному, вернее, родительскому празднику. Ждал, что она будет выглядеть еще лучше, что опухлость еще уменьшится, и мы поговорим о скором переезде на дачу. ( Еще в прошлом году предполагалось, что как только Тема кончает школу, все дети, мама Лиля и бабушка Таня отправятся в Усадково на все лето).
И действительно, она была веселой и радостной, но внешний вид ее... снова ухудшение. Опять опухла правая рука. Почему? - «Что-то лишнее выпила на I мая" - легкомысленно отвечает, а я про себя ужасаюсь этой легкости. Нельзя было портить ей дорогую Пасху, но и веселого было уже мало. Пил не за ее здоровье, а за ее жизнь. Но как же можно было надеяться, если тут же при мне она съела пасхальное яйцо - чистый белок, самый страшный яд в ее положении, а я лишь ахал и упрашивал.
Ее нежелание или неспособность сдерживать и контролировать свое питание вдруг стали очевидны.
"Мама, мама, Вы же губите себя, меня хоть пожалейте..." - "Ну, что ты, Витя, я обязательно буду сдерживаться, это только сейчас, ради праздника".
Но я уже видел: не будет. Оставаясь целыми днями одна (отец приходил с работы только на обед), она уже не может сдерживать свою жажду и голод, воля ее разрушена. А о своем желании держаться и выкарабкаться она говорит мне и отцу только в утешение, как благодарность за желание спасти ее. Сама же не верила, и, оставаясь одна, иногда не отказывала своим сильным желаниям.
Порешили, что днем с мамой будет сидеть ее мама – прабабушка Поля, а как станет чуть лучше, они переедут на дачу.

Кажется, к этому дню относятся мои последние и очень неудачные ее фотокадры: Алеша на коленях деда, а Аня - у бабушки Тани.
Еще несмышленная, нераскрывшаяся Анина мордашка обращена к мертвеющему бабушкиному лицу, тусклые глаза которого уже связаны с чем-то вне нас, с какой-то неподвижной вечностью. Лилю в тот раз испугала "мертвость» еще живой мамы, которая на коленях своих качала собственную молодую поросль, самый младшенький росточек, так похожий на неё молодую. Как будто старое дерево, уступая жизнь молодому растению, распадается тут же, освобождая ему место под солнцем. Распадается - и вот уже… пусто... Девочка Таня, боже мой, что же с тобой стало? Ещё не так давно цветущее создание глядит вот так - в пустую бесконечность, где нет неба, солнца, где нет ничего. Страшно, мои дети?
Мне - страшно. Но это спасительный страх.


Бабушка Таня с Аней, дед Володя с Алешей. 4 мая 1975 года
Я не боюсь вам рассказывать про бабушкину смерть, чтобы вы еще жаднее и крепче любили эту короткую и такую прекрасную жизнь. А когда все же придет ваш черед - чтобы держали на коленях свою поросль. Так все же легче умирать, я уверен.
В мае болезнь наступала почти непрерывно. Дежурства прабабушки Поли не помогали. Может, ее сердце не выдерживало дочерних просьб о "водичке", а может, собственные представления и опыт диктовали доставать для дочки» истинное средство спасении" - «святую (освященную) воду" - все ту же "водичку". Прабабушка Поля к старости стала скрытной и упрямой. И никто не мог поручиться за логику ее поведения. Деда Володю особенно смущала и пугала прабабушкина вера и связанные с нею поступки. Так, еще осенью, прабабушка Поля приходила к своей дочери Тане и убеждала ее, что смерть близка, надо думать о смертном часе, о Боге, приготовить похоронное платье, распорядиться имуществом, раздать часть его бедным и пр.
Интуиция ее была безошибочной. Мы о смертельной опасности догадались лишь весною, а она уже осенью была убеждена в неминуемо быстрой кончине средней дочери. Но если для нас атеистов, сама мысль об этом страшна и непереносима, то для верующего человека она означает лишь необходимость практической подготовки своего перехода в мир иной. Как готовятся в дальний путь, как переводят дом с летнего сезона на зимний. Нет у них страха. Может, подсознательно он и есть, но сильная вера этот страх легко подавляет.
Но прабабушка Поля совсем не учитывала, что дочь не верит в ее Бога и собственное бессмертие. Всю жизнь она хотела поверить и не смогла. Для нее, еще осенью борющейся и надеющейся на "два годика" реальной и единственной жизни, все деловые разговоры о близкой смерти и поспешной подготовке к ней были тяжелы и трудно переносимы. Как будто мать желает ей смерти поскорее... Для нас же с отцом - они были страшны и чудовищны. Пара таких посещений и мы вынудили прабабушку Полю прекратить такие гостеваний с душеспасительными целями. Она обещала молчать и теперь. Но кто же ее проверит - отечность у мамы все увеличивалась.
Она уже только лежала и лишь изредка садилась на кровати. Говорила мало, находясь в полудреме. Сознание постепенно угасало. Перебирая в памяти последние встречи, я лишь 9 мая и помню ее ясной - был долгий, разумный разговор. Помню живой, как всегда смышленой и бесконечно доброй ко мне. Кажется, тогда она сказала слова обо мне-солнышке... А дальше, в последующие дни, на длинные предложения ее уже не хватало, только на короткие ответы....
Оставалась лишь одна надежда - с мамой сидеть мне или отцу. А у нее билось лишь одно желание-просьба - скорее на дачу, в цветущий сад.
Долго мы говорили-судили, прежде чем решиться на поездку в столь тяжелом состоянии. Наконец, отец сдвинул свой отпуск с лета на май, и 16 мая мы отправились на заводском микроавтобусе: шофер, я с мамой, а сзади - отец с прабабушкой Полей.
Всего лишь месяц прошел с той памятной консультации. А как будто годы... Прекрасный весенний день. Но мама уже не воспринимает его. Где ее оживленность, где умные глаза? Они полузакрыты, речь затруднена и односложна. Да разве можно назвать речью отдельные слова, да и те - часто невпопад? И только редкие вздохи-зевки меня успокаивают: значит, не больно, значит, едем хорошо. Предупрежденный шофер вел машину изумительно ровно.
Через полтора часа мы были на даче. Остановили машину прямо у калитки и ввели, почти внесли бабушку Таню во двор. Яблони уже начали отцветать. Вот где она оживилась, хотела что-то сказать, но слова приходили трудно. Наконец, выдавила радостно: “Це наша дача". А потом долго сидела на крыльце в созерцании любимой земли... Сколько лет она не была на родине, и вот, когда стало совсем плохо, вернулась к ней "украинская мова".
Уехал я на следующий дань, окончив с отцом обустройство комнаты под лазарет, договорившись подробно о лекарствах и о режиме с соседкой-врачом и со своими.
Всё вроде было в порядке: и в окно мамы лился свежий воздух весеннего сада, и ухода лучше, чем от отца, не пожелаешь, и врач рядом, но тяжко было у меня на душе. Словами оптимистировал, внушал надежды, а сам - не верил уже.3нал, что мать умирает, а сказать себе это словами боялся.
Среди своих я был наиболее трезвым, действенным и понимающим. И вот оставил умирающую мать - как устранился. Как будто на моих руках лежала мамина жизнь, а у меня нет сил ее удержать... Как будто я разжимаю пальцы, и мамина жизнь протекает сквозь них невесомыми, неудержимыми каплями. Уже не было чувства, что я предаю или убиваю маму своими поступками и жизнью. Нет - только разжимаю пальцы и роняю. Роняю в землю. В голове стучит маринцветаевская фраза - «жизнь выпала копейкой ржавою".
Навязчивый мотив этих слов прекратился, кажется, только на похоронах, когда с моих рук и вправду посыпался песок в могилу
Еще один раз я увидел маму 25 мая. В первый раз (да и последний тоже) не было у нее оживления от моего прихода, хотя глаза открыты и понимание было. Отец сам ее кормил, сам колол лазиксом. Он был убежден, что воды дает меньше, чем выделяется мочи, но улучшений нет. Вот только что вода схлынула с ее лица, избороздив его мешком морщин (а я и это готов принять за улучшение). Багровое, отравленное тело, вспухшие руки, дрожащие мелкой дрожью. Бедное тело, оно живет, оно сопротивляется изо всех сил безжалостному напору воды. Эта дрожь - самое живое, что в ней осталось.
Разговора с мамой уже нет. Можно только сидеть рядом с ее постелью, о чем-то простом громко спросить и добиться односложного ответа. Потом она начинает дремать. Тихо так, успокоительно для меня зевнет, что подумаешь: «К лучшему это". И только один раз за эти дни она подарила мне пронзительное воспоминание. Ей нужно было встать. С моей и отцовой помощью она встает, но ходить уже не может, как малый ребенок неустойчива, стоит раздумчиво и враскорячку. И вдруг коротко на меня посмотрела, улыбнулась своей чудесной кривой усмешкой и сказала: "Какой корявкой..." На слово "стала" ее уже не хватило.
До сих пор этот взгляд и эту "корявку" я не могу вспоминанать без слез, они снова и снова лезут в глаза. Я в последний раз увидел тогда свою маму, которая дала мне жизнь и силы жить, разум, вот эту усмешку над самим собой, душу и тело. Маму, которая всегда и во всем отдавала мне всю себя. И если что-то хорошее не передала, то только потому, что я взять не смог. Я это понимаю теперь так ясно, так пронзительно ясно понимаю.
Смерть 28 мая 1975 года.
Через три дня, в среду,28 мая, я сидел там же, у ее мертвого тела. Нет - у тела мертвой, потому что хотя мама была мертва и лоб, губы - уже холодные, но тело еще было теплым. Говорят: "тело остывает", но я думаю - оно еще продолжает жить. Как в городе, взятом наконец-то врагами, еще действуют некоторое время разрозненные очаги сопротивления без связи и управления, так жили еще группы клеток в мамином неподвижном теле.
Я трогал ее, гладил, окликал негромко, понимал, что ответа не получу. Она не слышит. В прошлый раз от нее тоже было трудно получить ответа. Тоже была безучастной. И тогда была почти мертвой. Сейчас - стало хуже. Остановилось сердце, остыло сознание. Мама все-таки умерла. Все-таки это произошло. Но мама еще жива, она теплая, и я реально, явственно чувствую ее живое тепло. Какая смерть? И я пытаюсь с ней разговаривать, спокойно почти культурно, но все на ту же тему: «Мам, а мам? Мамочка ты моя..."
Подходит бабушка Поля, хоть я и просил ее повременить с рассказом. Рассказывает: с понедельника стало хуже, во вторник впала в беспамятство, не признавала никого. К вечеру пришла вызванная из деревни официальный врач. Сказала - долго не проживет, вколола что-то и ушла. Ночью с трех ' часов начала сильно кричать, мучилась. Ничего с отцом они сделать не могли, только бегали и звали ее. В эти ночные часы и пришла к маме, наверное, страшная, главная смерть, последнее убийство водой маминого существа, маминого сознания, всего бездонного мира милой «корявки".
В 6 часов утра мучения ее кончились. Она затихла и только, редкое дыхание говорило о жизни. Жизни тела. В три часа дня она в последний раз коротко всхлипнула и перестала дышать. Вдвоем отец с прабабушкой Полей обмыли ее, одели и уложили на помост.
Я приехал только в шесть вечера, когда отец уже уехал в Москву заказывать гроб и сообщать родственникам и сослуживцам. Наутро мне предстояло тоже ехать домой, оформлять похоронные документы.
До утра у меня было много времени. Нет, я не пересматривал своей жизни, не давал обещаний или клятв. И вообще ничего не делал и не думал, наоборот, напоминал себе, что часто спорил и ссорился с мамой, и был от нее далек, и боялся ее видеть, с неохотой подвигал себя на сыновние визиты. Мне, конечно, бывала приятна радость на ее лице от моего прихода, но она нисколько не перевешивала неприятного ожидания упреков и поучений... Вспоминал, что ведь сам отказался от совместной жизни с нею. Так что ж теперь горевать и сетовать? - Сама природа утвердила твое решение: ни совместной жизни, ни даже редких свиданий. Что ж лицемерить? Мама, мамочка, и вправду так у меня и было... Странно, никогда в жизни я не употреблял этого уменьшительно-ласкового слова (может, в детстве, не помню), а в этот вечер оно стало единственным.
Я выискивал, вытягивал из себя все плохое, что знал о маме. Оно, действительно, было: и ее раздражительность, и мнительность, и излишнюю заботливость, и упрямство при настаивании на своем, иногда вдруг нетерпимость, в общем, все, что могло отравлять и отравляло и ее и нашу жизнь. При этом убеждал себя: о мертвых плохо не говорят - это правильно, но ты-то, ты сам все знаешь. И ты здесь один. И сейчас про себя и себе не нужно лицемерить, скрывать, что с мамой жить не хотел, что этим сам оттолкнул ее от жизни. Что даже в последний месяц борьбы за ее жизнь, ты боялся этой смерти, оттягивал ее и в то же время томился и желал, чтобы "скорее все кончилось". Неужели ты боишься признаться даже себе?
Да, мои дети, это было именно так. Я боролся за жизнь своей мамы и вместе с тем хотел, чтобы все быстрее кончилось. Не мог я вместо "всё быстрее кончилось" сказать прямые слова "хотел, чтобы мама скорее умерла". Вот пишу их сейчас и ужасаюсь.
Не хотел я маминой смерти! Я хотел бы, чтобы она жила долго, всегда, чтобы она просто была, и я мог придти, когда захочу, и увидеть всегда радостную мне улыбку. Чтобы только знать, что она есть на свете, а ты для нее остаешься сыном, маленьким мальчиком, чтобы с тобой ни случилось. И для меня - огромнейшее несчастье эта смерть. Впрочем, нет, неправильно. Несчастье - это что-то необычное, а по природе я и обязан пережить смерть моей мамы. Скорее, это огромная жизненная грань-ступень.
Умерла моя мама, и я навсегда перестал быть ребенком. В цепи человеческих поколений - теперь моя очередь умирать. Как будто огромное дерево, поившее меня своими соками, рухнуло, и я остался с миром один, без защиты и материнского укрыва, остался сам на положении стареющего дерева над собственными детьми.
Конечно, я не хотел смерти мамы, не хотел и слышать о ней. Но понимал ее неизбежность. И это бессильное ожидание так непереносимо тяжело, что невольно ждешь конца этого состояния, хотя бы даже через непредставимую мамину смерть. Я это пережил, мои дети, и уверен, что вам будет тоже тяжело в свой черед. А потому хочу сейчас, заранее, подбодрить и утешить: не бойтесь этой боли, она перейдет потом в печаль и благодарственную мудрость. И может эта облагораживающая душу печаль - последний подарок, который нам дарят умирающие родители.
Я пытался быть в тот вечер объективным, пытался вспомнить причины наших ссор, ее обиды и все наши, еще со школы, далеко не безоблачные отношения. Каким же я был тогда заносчивым мальчишкой! Как защищал свою независимость! Как ранил ее сердце! Год за годом. Копаясь позже в ее бумагах, нашел свое школьное обязательство: как стану взрослым и начну работать, выплачу маме все деньги, затраченные ею на мое кормление и воспитание. Слава богу, что не стал выплачивать, идиот несчастный! А в 9-м классе,"в шутку", укрепляя свою независимость от мамы, доказывал, что "кровь ничего не значит" и чтоб доказать это, с удовольствием выпустил бы из себя всю ее кровь и заменил ее новой. Эта глупость обидела ее страшно, на всю жизнь. А потом, уже в институте, я запретил ей подойти к эшелону, отправлявшему меня в первый раз на целину, и она была вынуждена глотать слезы на мосту, далеко от толпы провожавших поезд родителей, завидуя их нехитрому счастью... А потом споры о политике... А потом отказ жить вместе...
Из этих разбирательств никак не складывался привычный образ раздражительной и трудной в общении женщины. Вырисовывался ее истинный облик ранимой, изломанной жизнью и любящей женщины. Чуткой и умной. Все отрицательное не было в ней главным и было лишь результатом нанесенных жизнью обид, душевных ран даже от близких, даже от меня.
Весь последний год ее жизни, почти год ее смертельной болезни вдруг открылся мне истинным благородством ее поведения. Ведь мама знала, что умирает, давно знала, может, весь этот год. Но никогда мне этого не говорила. Только раз, заговорив о деньгах, тут же сконфуженно умолкла. В близости смерти она была уверена и шла на нее спокойно. И в тоже время лечилась, мучилась от жажды, от диеты - ради меня, и мужа, и всех близких.
Сама смерть ее произошла для всех нас, детей и внуков так тихо, так ненавязчиво, так во время! А мы еще про себя страшились: ведь надо на дачу летом выезжать Лиле со всем детям. Как же ужиться тяжело больной с ребячьим гомоном и криками? Как же успеть ходить за нею, за детьми и садом? И мы оттягивали дату выезда на июнь и дальше... А мама взяла и умерла за два дня до начала Темкиных каникул... И в этот вечер я удивленно повторял: «Ах, мама, мамочка, как во время, как во время ты умерла... Зачем же ты ушла?"
Вот так, в смертный час - нет, не час, а год - вдруг виден станет человек, весь из любви и мужества. Как будто пропадает шелуха мелочных пристрастий, обыденных обид и высветляется суть.
Ты видишь воочию, как гибнет тело и как гаснет сознание. Но вот вдруг прорывается к тебе ее общение - совсем как прежде - лаской, иронией к себе, насмешливым лукавством и бесстрашием ("Какая корявка... стала") И видишь, что душа ее, очищенная от суетного быта и брюзжанья, стала краше или просто вся открылась перед уходом к Бесконечному Богу. Мне стала немного понятной людская уверенность в бессмертии души, но я был не в состоянии додумать все до конца.
Да, еще о Боге... Конечно, маме было бы много легче умирать при вере в Бога, когда ужаса смерти нет, а смерть считается каким-то временным забытьем типа сна или наркоза для перехода в другой, небесный мир. Конечно, собственное тело и интуицию не обманешь, совсем от ужаса избавиться нельзя, но все же легче, много легче.
В последние дни и часы с мамой была ее твердоверующая мать. Как ей всё просто и понятно! Как убеждала она маму, как настаивала и просила исполнять все обряды православных - до последней здравой минуты. Казалось бы, любой в таких условиях захочет поверить-успокоиться и уверует сразу. Тем более что всю жизнь она тянулась к вере, и на бумажные иконки я часто натыкался в укромных уголках ее вещей. Но - не выходило, не получалось! И я уверен, в последний год она об этом и думать перестала и лишь из жалости к своей маме Поле соглашалась с ее уговорами. Это признала сама прабабушка Поля, когда сказала мне в тот вечер, что священника для чтения молитв, отпевания в церкви не надо, неверующей мама умерла...
И для меня это событие громадной важности. Оно - как завещание и укрепление в нашей новой, безбожной вере. Сильной, мужественной и тяжкой вере в бескрайний прекрасный мир и в нас - песчинки в нем, взметающие жизнью-мигом, чтоб передать свое движенье любимым близким существам. И нет другого бессмертия, как в этой связи поколений, как в любви и жалости к здесь остающимся, в этом чистейшем альтруизме в последний час.
Прекрасна наша вера!
Мама лежала предо мной и тихая, «покойная" улыбка чуть скрашивала ее одутловатое и мертвенно наплывшее лицо. Ее суть проглядывала в этой незнакомой мне улыбке, как в особом новом свете. Мама становилась все холоднее телом, но все прочнее преображалась в моих воспоминаниях.
О мертвых не говорят плохое. Неверно! Просто нечего сказать о ней плохого. Я это точно знаю.
Может, уже в тот вечер, а может лишь сегодня, но как-то крепче ощутил свое родство с людьми ее поколения - поколения "войн и революций". С людьми, выросшими в музыке маршей и концлагерей, в атмосфере страха и энтузиазма. С этими страшноватыми на вид, брюзгливыми к молодежи и нетерпимыми людьми трудно жить, трудно даже уживаться. Но мы их дети. Мы сами выросли в противостоянии их навыкам и привычкам. Мы более терпимы и свободны. И все же мы их дети. И не уйти нам от их веры, воспитания, от тесного родства.
Да и не надо уходить. Напротив - надо понимать, какой тяжелый груз им в жизни достался - вынашивать в муках рожденную новую веру, сколько страха и страданий перенесли, сколько бурь и течений их ломало и безобразило. Но их мучительная жизнь должна стать нашим и вашим опытом.
Бессмысленно судить - кто был в прошедших штормах правым-виноватым: как правило, они бывали и жертвами и палачами вместе. Мой отец – комсомолец, кулачивший крестьян и закрывавший церкви, едва избег опалы в 1938 году. А мать-дочь раскулаченного - едва ль не искренне пила за здравие Сталина- победителя. Кого и как из них судить? Всех или никого? Да и зачем судить поколение, которое само себя судило и казнило много раз?
Нельзя отказываться от результатов столь дорогого опыта. Если не поймем - отринем, то снова натолкнемся на очередной виток истории, на те же революции и войны.
Похороны
30 мая 1975 года.
Через день, в пятницу, в Усадково собрались заводские сослуживцы, соседи и все родственники, кто был в Москве. Были здесь и все вы, мои дети. И пусть лишь Тема осознал смысл и значенье своей утраты, пусть Алеша и Аня еще совсем ничего не понимали, но я считал тогда важным сам факт вашего присутствий на похоронах вашей бабушки, на закладке семейного кладбища в Грибцово. Я хотел, чтобы ваша связь со мной, с бабушкой Таней и всеми за нею предками стала глубже и прочнее через личное участье. Пусть Алеша и Аня не будут сами помнить бабушку Таню, но раз они сидели у нее на коленях, раз хоронили - то припомнят, через рассказы и фото, и оттого крепче будут стоять на этой земле..
Был солнечный день. Было все как положено: венок и речь по бумажке от завода, соболезнование соседей, слезы на глазах родственников, рыдания прабабушки Поли. Тяжесть была непереносимой. Мучила несоразмерность случившегося со всем нашим обычным человеческим поведением: я до похорон улыбался чьим-то шуткам, дедушка Володя после похорон демонстрировал кому-то своих первых пчел, прабабушка на похоронах заботилась о том, чтобы выгоднее попасть в фотокадр. И это - в кругу искренне сочувствующих твоему горю людей.
Но, мои дети, не верьте такой "бесчувственности". Горе забирает не сразу. Я до сих пор пишу со слезами эту память, прабабушка в это лето начала заговариваться, разговаривая с умершей дочерью, бабушкина сестра Соня, ранее перенесшая инфаркт, теперь столько напринимала лекарств в попытках успокоения, что с осени легла в больницу. А дедушке Володе - ему, чем дальше, тем хуже и хуже. Не спит, слушает ночью Танин голос, не знает, что ему делать, казнит себя, что не все сделай для опасения, для исполнения ее желаний, и никто не в силах его успокоить, утешить, вернуть смысл оставшейся жизни...
Нет, сразу всех последствий смерти не понять, не пережить, не выплакать - лишь в долгие недели, годы, жизнь.

30 мая 1975 года. Кладбище Петрищево-Грибцово.
А тяжесть самих похорон - когда касаешься дорогого лица в последний раз, и крышка забивается, и сыпется песок, и вот уже на месте жилища-ямы могильщики формуют могильный холмик, и вдавливают в свежую землю лопатой крест ("Ведь русская, не нехристь...") - что ж, это тоже трудно. Но преодолимо.
Я помню, как вернулись с кладбища и сели за поминальный стол. Пили, ели, даже потом шутили и смеялись. И почему-то снялась тяжесть, легче дышать стало. Может, это от водки. Очень может быть. Но мне тогда казалось - от другого. Как будто мы вернулись не с похорон, а с вокзальных проводов в далекую поездку в далекую страну, скажем, за границу, откуда возврата нет, и мы уже не встретимся. Конечно, это грустно, но, в общем - не страшно, все обычно. И жизнь течет по-прежнему.
С тех пор и повелось: чувствую себя живым, веселым, сильным, далеким от смерти, когда во мне подспудно живет уверенность, что мама не умирала, а где-то там живет себе тихонько. Но как только я начинаю внушать себе правду о ней - тяжесть задавливает сердце. И трудно жить.
Так до меня дошла нужда людей в поминках-проводах умерших, потребность веры в бессмертии души. Но как я примиряю это пониманье со своею материалистичной верой? - А никак: пусть будет неувязка, раз так легче...
Прошли месяцы... Проезжая автобусам Грибцово, я могу видеть дальний угол хвойного леса на высоком пригорке по дороге в Петрищево. В этом ельнике и огорожено наше кладбище. Там лежит моя мама.
Осенью мы с отцом поставили железную ограду. Весной, даст Бог, поставим на могилу камень... Красивое там место. Далеко вокруг видно. Приятно здесь лежать, что означает - приятно оставшимся живущим умерших навещать.
В день похорон, я отвел в сторону Тему и Галю от свежей маминой могилы и наказывал им: "Когда умру и будет у Вас возможность, не раскидает если судьба, похороните меня здесь рядом с бабушкой Таней“.
Сейчас я повторяю это для них и для Алеши с Аней.
От этого решения-завещания мне стало увереннее жить, покойнее. Теперь я знаю, "куда пойду в последний путь", и кто похоронит, и кто будет приходить поминать и помнить мою любовь и передачу знанья.

